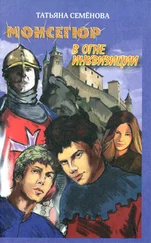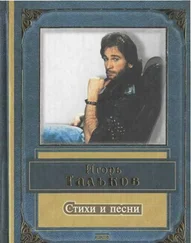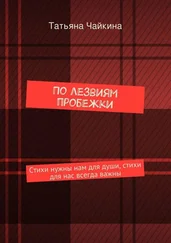Твоей мы сжигаем страну – как коня и жену
Язычника-князя.
Как будто мы спим – и не в силах противиться сну
До смертного часа.
«И как ты коленки сгибал во сне…»
И как ты коленки сгибал во сне,
И какую любил еду —
Все тащит память в скупой возне,
По-плюшкински, на ходу,
Пока ты уходишь за горизонт,
Закуривая, в закат,
Вдоль серых заборов. Так гарнизон
Покидает город. Пылят
Ботинки, кружатся чаинки ворон.
Как «о» в беззвучном «любовь»,
Зияют пустые арки ворот:
Врывайся и грабь любой.
«Август – небо воскресенья…»
Август – небо воскресенья:
Высота и синева,
В сероватый пух осенний
Облаченная трава.
Даже сломанная ветка
Солнцем преображена,
И беззубая соседка,
И лесничего жена,
Блюдце с яблоком незрелым,
Лес, пожарный водоем
Блещут обновленным телом —
Словно в Царствии Твоем.
«Всем телом прижимаюсь к небу…»
Всем телом прижимаюсь к небу,
Всю ночь на цыпочках стою,
Губами дальнюю планету
Ловлю – как родинку твою.
Ночное небо молчаливо,
В глубокий сад погружено.
Вздохнешь – и огненная слива
Беззвучно падает на дно.
«За океаном было близко …»
За океаном было близко —
До океана
Мой голос долетал без риска
Порваться. Пьяный
Матрос его не путал с чайкой,
Пока летел он
К тебе – веселый ли, печальный,
Лишенный тела,
Но не внимающего уха,
А значит, дома.
Теперь, назойливый, как муха, —
Аэродрома
Лишенный самолет, мой голос
Кружит над кухней —
Пока горючее осталось,
Пока не рухнет.
«Не дал мне Бог дочерей, а были бы …»
Не дал мне Бог дочерей, а были бы —
Назвала б Евдокиею да Прасковьей:
Евдокия смеется – слыхать до Киева,
А Прасковья гуляет по Подмосковью.
Целый день бегали бы за братьями,
Целый день бы в доме хлопали двери.
По углам бы шептались, мелькали платьями.
Ну, а младшую назвала б Лукерья.
«Женщина умирает дважды…»
Женщина умирает дважды.
Сначала зеркало покрывается порами, и по капельке, словно пот,
Красота испаряется, и от жажды
Вернуть ее блестят глаза, пересыхает рот.
И мужские взгляды, несущие женщину, будто птицу,
Редеют, гаснут, разбиваются, как стекло.
Она останавливается у кондитерской, вдыхает запах корицы
И вдруг понимает, как тяжело
Ее тело. Она еще борется, но уже на полку,
Вздохнув, ссылает любимое платье. «Какого тебе рожна?» —
Негодует подруга обрюзгшая. Агония длится долго.
Это первая смерть. А вторая не так уже и важна.
Болота, болота, болота, болота,
Романовка, Верево, Мозино, Зайцево, Гатчина.
Забота, забота, забота, забота, забота.
Небрежно земля заштрихована, вскользь обозначена.
Как лица в вагоне – в осенних тенях-паутинках
На серых щеках, в перекатах усталого голоса.
Кто спит у окна в камуфляже, в солдатских ботинках,
Кто вяжет, кто обнял рюкзак и букет гладиолусов.
И лузгает семечки, кровь с молоком, контролерша,
А кто помоложе, играет, уставившись, в гаджеты,
И бочка торчит из болота, и громче, и горше
«Куда, – повторяют колеса, – куда же, куда же ты?»
И правда, куда громыхает-бренчит электричка,
Зачем продавец приволок эту сумку с мороженым?
Куда-то неслась уже, помнится, бодрая бричка —
Вперед, меж дубравами и протокольными рожами,
И снова летит – Карташевка, Татьянино, Гатчина —
Заросшими сором пустыми полями недужными,
Меж серых заборов и речки, намеченной начерно, —
За мертвыми душами, видно, за мертвыми душами.
Неужто опять до конечной разбойничьей станции:
17 год недалече, садитесь, оплачено.
С индейкой-судьбой, как с лузгой на губе, не расстаться нам.
Тележка, ведро, Кондакопшино, Лампово, Гатчина.
Скажите мне, где мой любимый,
Из этих мест куда ушел он?
Блестят домов сырые спины
Между Аидом и Шеолом,
Сочится горький сок рябинный,
Торчат ребристые заборы.
– А где, скажите, мой любимый?
– Не плачь, не плачь, вернется скоро.
– Когда, когда же он вернется?
Ложась в постель, его ждала я.
Его лицо зашло, как солнце
За тучу, медленно сгорая.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу