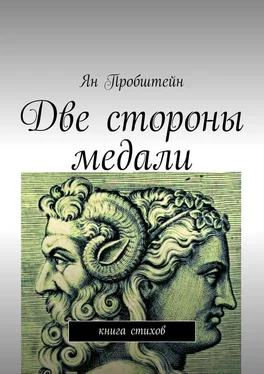В аду обетованном глас Адама
мы слышим в наших коммунальных кущах,
но стихнет он – в пустыне вопиющий
раздастся глас – ведут очередного
козла, как говорится, отпущенья,
а я паду в твои объятья снова,
чтобы в любви отмыть грехопаденье.
1997
Мы слов стыдились нежных, как апрель
мы чувств бежали искренних и звонких,
но грубой жизни злая канитель
в душе не затравила взгляд ребенка.
Прозрачные, как смех и Цинциннат,
взрослели, ускользая от цинизма,
пусть буду перед миром виноват, —
не этот плоский мир – моя отчизна:
я весь оттуда, где трепещет сад
на зеркале травы, где бродят лани,
и ты оттуда, и о том твой взгляд
мне говорит яснее восклицаний.
Но как узка тропинка, труден путь
над бездною безо́бразных видений,
и я молю, чтобы не соскользнуть
позволил опыт всех моих падений.
1993
Влю – ослепленность, одержимолость
вдох – выдох – вдох – новения.
Миг – и стекает изморосью изморозь.
Как задержать дыханье вдох – мгновения?
Априюль меня, примаюнь меня
приголубь меня, прижуравль меня,
средь синиц и кур я устал, авгур,
приручи меня, приволчи меня,
я устал от свор и устал от свар,
я устал от сук и собачьих ласк,
ведь не пес я, бес,
скучно мне средь дрязг —
обрати меня в твоего коня.
1995
Век приучаемся мы к отчужденью
жизни живой, тренируясь при жизни
в самозабвении и умиранье,
так приучаются к самозакланью,
так постепенно – ступень за ступенью,
как по ступенькам, сходят с ума:
в сонной ли сини, в тихой квартире
снятся покинутые дома,
сброшенных жизней змеиные шкуры
и чередуются в яростном мире
вспышки горячечной температуры
с тряским ознобом злой лихорадки.
Этот – возвышен до самоповешенья;
падая, корчится Мышкин в припадке;
в полночь беседует с чертом помешаный…
девочка снится мужчинам, играет
с Гумбертом и Свидригайловым в прятки.
1995
Истовых чувств исток
заперт, наложен запрет,
перебродил сок,
перебродил в бред.
Рвется нежная плоть,
мякоть из кожуры —
истому перебороть
в порыве адской игры
тщится тщедушный мозг,
шаток сознанья мост,
сладок запретный плод,
но отныне запрета нет —
все дозволено тем,
кто в силах переступить
через табу, тотем,
чтоб жажду Лилит испить.
1993
Лишившись угла и крова,
проживал я в театре теней,
лунных, солнечных, звездных,
вели они бой меж собою,
бесшумный, вечный, бескровный;
из земли извлекали корень
мандрагоры в лунные ночи,
тень собаки сажая на цепь,
и собачья тень издыхала
и снова садилась у корня.
Съев тень яблока, тени вещали,
исполнялись немыслимой силы,
находили клады, рожали,
на врагов насыпали порчу,
весть о том несли вестовые,
на исходе дня удлиняясь,
а в безлунно-беззвездные ночи
укорачиваясь и корчась.
Там жили бесшумной жизнью
и бескровно там погибали:
тень склонялась над тенью с лаской
и другую тень пожирала,
на том месте трава рыжела,
видно солнце ее выжигало,
а лишенные собственных теней
растворялись в чистейшем эфире.
Там я с собственной тенью слился
и с другими сдружился тенями —
в безмолвной стране забвенья,
где жду я тебя с твоей тенью.
1995
Не стаю лебедей, не соколов
я выпускаю из ладоней,
и вот, являются из коконов —
(неотличимы от агоний
те напряженные мгновения
на грани смерти и рождения,
а просветленье – от безумия,
когда во тьме своих наитий,
склонясь над бездною Везувия,
натягиваю струны-нити
и с крутизны стола соскальзываю,
паря над пропастью топазовою) —
и, молчаливые, над бездною —
лишь слышится шуршанье крылий —
взмывают песней бесполезною,
храня налет небесной пыли,
быть может, просто однодневками,
а может – гордым махаоном,
но крыльями взмывают дерзкими
под изумленным нeбосклоном, —
пусть издыхающие гусеницы
влачатся по земле печальной, —
так некогда святые мученицы
и ведьмы на кострах молчали…
1992
А невесомость – это страх
А невесомость – это страх,
разрыв привычных уз, иллюзий,
И веской тяжестью в руках
не стать обыденной обузе.
Истончена моя печаль
до искры золотой в глазах,
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу