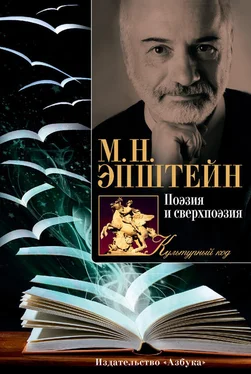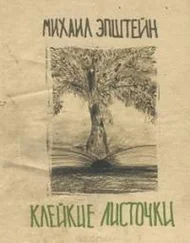Итак, в восприятии и по поручению своих благодарных потомков Пушкин легко входил в любую роль: певца русского государства и провозвестника русской свободы, друга царя и друга бунтовщиков, мятежного вольнолюбца и смиренного христианина, народного пророка и сторонника чистого искусства, пылкого любовника и заботливого семьянина, мечтательного романтика и трезвого реалиста. Крылатую фразу Аполлона Григорьева Синявский мог бы переиначить: «Пушкин – наше ничто».
К сожалению, пока нет науки, изучающей реальные исторические личности как героев национальных легенд. Речь идет о своеобразной мифологии, только не пришедшей к нам в готовом виде из доисторических времен, а той, которая складывается на исторической почве и в создании которой мы сами принимаем непосредственное участие – как звенья в цепи национальной памяти, дополненной идеализирующим воображением. Тот факт, что в России не сложилась (или была рано утрачена, дошла в крайне разрозненных фрагментах) система дохристианской мифологии (в отличие от древнегреческой, индийской, германской), активно влияет на процесс образования новой, современной мифологии, включающей в свой сакральный контекст много исторических фигур. Писателям и в особенности лирическим поэтам суждено занимать в этом национальном пантеоне исключительно важное место.
Почему же именно о лирических поэтах складываются легенды – гораздо чаще, чем о прозаиках или драматургах? Миф, по определению, – это неразличимый сплав фантазии и реальности, это образ, переживаемый как факт. Но именно таков и лирический поэт, которого трудно бывает отделить от героя его стихов. В лирике авторское «я» и «я» персонажа причудливо совмещаются и переливаются друг в друга, тогда как у эпика или драматурга они четко разделены самой манерой повествования или изображения в третьем лице.
Сближение в первом лице реального автора и вымышленного героя свойственно именно лирике, поэтому лирическая личность потенциально мифологична, принадлежит одновременно и миру действительности, и миру воображения. Эпик может рассказывать мифологические сюжеты (Гомер), лирик же сам становится мифологическим персонажем (Орфей). Любовник, бродяга, пророк, мятежник – лирик сам есть все то, о чем эпик только повествует. Поэтому образы поэтов в сознании потомства неотделимы от образов их поэзии. Они творят не только стихи, но и самих себя как некое целостное, мифо-синкретическое единство. И чем крупнее поэтическая судьба, тем менее принадлежит она одной лишь истории и тем более универсальный и символический образ ее складывается в сознании народа.
Необходимость такого «мифологического» подхода к истории литературы особенно остро ощущается в пушкиноведении [23] Отсюда и такое явление, как «народное пушкиноведение», фольклорное начало, вносимое в саму науку о Пушкине. См.: Непомнящий В. Поэзия и судьба. М., 1983. С. 38–42. Вообще в этой книге, особенно в главе «Народная тропа», глубоко осмыслены многие решающие черты пушкинского мифа.
. Каждым поворотом своей судьбы и каждой гранью мироощущения Пушкин надолго предопределил те формы, в которые отливается субстанция национальной души. Пушкин и море [24] См.: Цветаева М . Мой Пушкин. М., 1967. С. 98–104.
– это русское, тоскующе-взволнованное отношение к стихии. Пушкин и Михайловское – образ творческого уединения, пустынность, смирение перед лицом смиренной природы. Пушкин и Петербург – восторг и смятение перед лицом великодержавного города, красота и холод царственного гранита. Пушкин и Лицей – навсегда вошедший в нас образ пожизненной дружбы, веселого и нежного братства. Пушкин и Булгарин – образ заклятой вражды. Пушкин и царь – дух в его осторожно-уклончивом, вольно-обходительном отношении к власти (свобода без бунта). Пушкин и няня – дух в его ласково-благодарном, приязненно-льнущем отношении к естественности и простоте народной жизни (любовь без идолопоклонства). Пушкин и декабристы – образец того, как поэзия относится к политической борьбе: нераздельно и неслиянно. Так можно было бы перечислять еще долго: Пушкин в дорожной кибитке, Пушкин у домашнего очага, Пушкин и первая русская красавица, Пушкин и русское отношение к смерти… – все, что из биографии конкретного человека выросло в ранг национального мировоззрения.
Особая тема – пушкинское окружение, его друзья. Подробности их конкретного облика стираются в обобщающей памяти потомков, и остаются лишь четко очерченные индивидуальности, которые по отношению к центральности самого Пушкина выглядят односторонними. Он глава пантеона, все прочие участники которого воплощают отдельные качества Пушкина, оттеняя в то же время его многосторонность. Прекраснодушный, благожелательный, чистосердечный Жуковский – и циничный, коварный, искусительный А. П. Раевский. Безмятежный, ленивый Дельвиг – и предприимчивый, пламенный Рылеев. Рассеянный, чудаковатый Кюхельбекер – и хищный, ловкий Ф. Толстой-«американец». Высокоумный наставник, идеальный, философический друг Чаадаев – и услужливый помощник, преданный, «чернорабочий» друг Плетнев [25] Еще раз подчеркнем, что характеристики, данные в этой главе русским поэтам и их современникам, относятся не к историческим лицам, а к их мифологическим образам, которые реконструируются из самых распространенных, общепринятых представлений, почти как элементы фольклорного сознания.
. Элегический Баратынский, эпиграмматический Вяземский, идиллический Дельвиг, одический Рылеев – все они в пушкинской легенде контрастны друг другу, оттеняя своим своеобразием жанровое, психологическое, биографическое многообразие главного героя, высшего божества русского Олимпа.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу