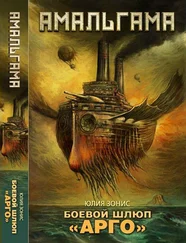и мне на сердце положила
два грустные крыла,
заворожила
и вознесла.
«В последний раз,— она шепнула, —
я на твоей груди дрожу.
в последний раз к тебе прильнула
и отхожу, и отхожу.
В моем саду поющих лилий,
где мы бродили краткий час,
я зыблю взмахи белых крылий
в последний раз, в последний раз.
Я слишком трепетно запела,
и я ниспасть осуждена,
облечь свой дух в покровы тела,
я женщиною стать должна.
И потому тебя, оплакав,
я ослепляю на лету,
храни же тайну вечных знаков
и белых крылий теплоту».
Андрею Белому
Надо мною нежно, сладко
три луча затрепетали,
то зеленая лампадка
«Утоли моя печали».
Я брожу, ломая руки,
я один в пустом вагоне,
бред безумья в каждом звуке,
в каждом вздохе, в каждом стоне.
Сквозь окно, в лицо природы
здесь не смею посмотреть я,
мчусь не дни я и не годы,
мчусь я целые столетья.
Но как сладкая загадка.
как надежда в черной дали.
надо мной горит лампадка
«Утоли моя печали».
Для погибших нет свиданья,
для безумных нет разлуки,
буду я, тая рыданья,
мчаться век, ломая руки!
Мой двойник из тьмы оконца
мне насмешливо кивает,
«Мы летим в страну без Солнца».
и, кивая, уплывает.
Но со мной моя загадка,
грезы сердце укачали,
плачь, зеленая лампадка
«Утоли моя печали».
Неизгладимыми строками
я вышил исповедь мою,
легко роняя над шелками.
воспоминаний кисею.
В ней тюль Весны, шелк красный Лета
шерсть Осени и Зимний мех,
переплетенье тьмы и света,
грусть вечера и утра смех.
Здесь все изысканно и странно,
полно утонченных причуд,
и над собою неустанно
вершит неумолимый суд.
Здесь с прихотливостью безумий
во всем расчет соединен,
и как в безмолвьи вечном мумий,
смерть стала сном, стал смертью сон.
Здесь все учтиво так и чинно,
здесь взвешен каждый шаг и жест,
здесь даже бешенство картинно,
и скрыт за каждым словом крест...
Но смысл, сокрытый в гобелене,
тому лишь внятен, в том глубок,
кто отрешенных измышлений
небрежно размотал клубок,
и в чьей душе опустошенной
стерт сожалений горький след,
кто в безупречный триолет
замкнул свой ропот исступленный,
кто превозмог восторг и горе,
бродя всю жизнь среди гробов,
для истлевающих гербов,
для непонятных аллегорий.
Кто, с детства страсти изучив,
чуть улыбается над драмой,
и кто со Смертью, словно с Дамой,
безукоризненно учтив; —
и для кого на гобелене
весь мир былой отпечатлен
кто, перед ним склонив колени,
сам только мертвый гобелен.
ТЕРЦИНЫ В ЧЕСТЬ ЖИЛЯ ГОБЕЛЕНА
Влюбленных в смерть не властен тронуть тлен.
Ты знаешь, ведь бессмертны только тени.
Ни вздоха! Будь, как бледный гобелен!
Бесчувственно минуя все ступени,
все облики равно отпечатлев,
таи восторг искусственных видений;
забудь печаль, презри любовь и гнев,
стирая жизнь упорно и умело,
чтоб золотым гербом стал рыжий лев,
серебряным — лилеи венчик белый,
отдай, смеясь, всю скуку бытия
за бред мечты, утонченной и зрелой...
Искусственный и мертвый след струя,
причудливей луны огни кинкетов,
капризную изысканность тая;
вот шерстяных и шелковых боскетов
без аромата чинные кусты,
вот блеск прозрачный ледяных паркетов,
где в беспредельность мертвой пустоты
глядятся ножки желтых клавикордов...
Вот бальный зал, весь полный суеты,
больных цветов и вычурных аккордов,
где повседневны вечные слова,
хрусталь зеркал прозрачней льда фиордов,
где дышит смерть, а жизнь всегда мертва,
безумны взоры и картинны позы,
где все цветы живые существа,
и все сердца искусственные розы,
но где на всем равно запечатлен
твой странный мир, забывший смех и слезы,
усталости волшебной знавший плен,
о, маг. прозревший тайны вышиванья
в игле резец и кисть, Жиль Гобелен!
Пусть все живет — безумны упованья!
Равно бесцельно-скучны долг и грех;
картинные твои повествованья
таят в себе невыразимый смех!
Ты прав один! Живое стало перстью,
но грезы те, что ты вдали от всех
сплел, из отверстья к новому отверстью
водя иглой, свивая с нитью нить.
бессмертие купив послушной шерстью,—
живут, живут и будут вечно жить
загадочно, чудесно и капризно;
им даже смерть дано заворожить.
В них тишина, печаль и укоризна,
Читать дальше

![Юлия Зонис - Боевой шлюп «Арго» [сборник]](/books/25867/yuliya-zonis-boevoj-shlyup-argo-sbornik-thumb.webp)