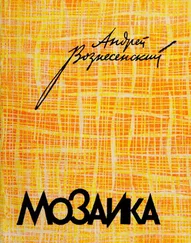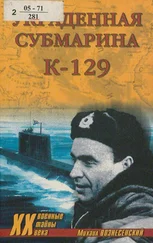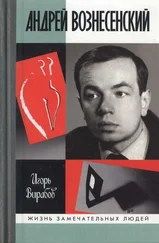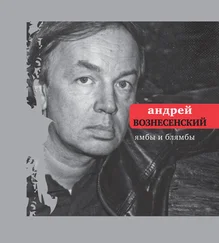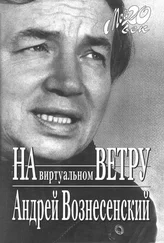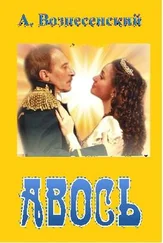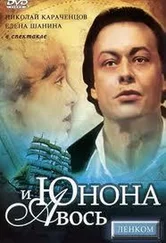Всё опустело. Стало пустотой,
что было лесом, временем, травой,
тобой, моя любимая, тобой,
кто мог любить, шутить и плакать мог —
стал комом глины, амока комок!
И встретились два бывшие врага,
осыпав пепел родины в руках,
недоумённо глянули в глаза —
слёз не было при минус сорока —
и, усмехнувшись, обратились в прах».
С. П. Капица на телемосту
кричал в глухонемую пустоту:
«От трети бомб – вы все сошли с ума! —
наступит ядерная зима.
Погубит климат ядерный вулкан…»
Его поддерживает Саган.
Вернёмся в текст. Вокруг белым-бело.
Вулкана изверженье привело
к холере. Триста тысяч унесло.
Вот Болдина осеннее село,
где русский бог нам перевёл: «Чума…»
Ядерная зима, ядерная зима —
это зима сознанья, проклятая Колыма,
ну, неужели скосит, – чтобы была нема, —
Болдинскую осень ядерная зима?!
Бесчеловечный климат заклиненного ума,
всеобщее равнодушье, растущее, как стена.
Как холодает всюду! Валит в июле снег.
И человеческий климат смертен, как человек.
Станет Вселенная Богу одиночкою, как тюрьма.
Богу снится, как ты с ладошки
земляникой кормишь меня.
Неужто опять не хлынет ягодный и грибной?
Не убивайте климат ядерною зимой!
Если меня окликнет рыбка, сверкнув, как блиц,
«Дайте, – отвечу, – климата
человечного без границ!»
Модный поэт со стоном
в наивные времена
понял твои симптомы,
ядерная зима.
Ведьмы ли нас хоронят
в болдинском вихре строф?
Видно, поэт – барометр
климатических катастроф.
Пусть всемогущ твой кибер,
пусть дело моё – труба,
я протрублю тебе гибель,
ядерная зима!
Зачем же сверкали Клиберн,
Рахманинов, Баланчин?
Не убивайте климат!
Прочтите «I had а dream…»
Я видел сон, which was not аll а dream.
Вражда для драки выдирает дрын.
Я жизнь отдам, чтобы поэта стон
перевести: «Всё это только сон».
1987
ТРЕЩИНА
Я дерево вкопал
в национальный парк.
В моих ушах звенит
национальный стыд.
Кто замутняет ход
национальных вод?
Бьёт в ноздри мне из недр
национальный дух,
национальный кедр,
национальный дуб.
Светает среди верб
национальный серп.
Полз в яблоневый сад
донациональный гад.
С холма на сериал
полуслепых полян
хрусталиком сиял
национальный храм.
Бесчеловечий дух
соединил в веках
Блаженного петух
с чалмами и в крестах.
Пней поднебесный тир.
Озёрный Левитан.
И небосклон из дыр
озонных трепетал.
Вдруг Божий белый свет
рассыпался в момент
на центробежный спектр
национальных лент.
Всё резче и красней
белки моих друзей.
И зреет, сроки скрыв,
национальный взрыв.
1987
* * *
Во время взлёта и перед бураном
мои душа и уши не болят —
болит какой-то совестибулярный,
не ясный для науки аппарат.
Когда, снижаясь, подлетаю к дому,
я через дно трепещущее чую,
как самолёт с жестяною ладонью
энергию вбирает полевую.
Читаю ль тягомотину обычную
или статьи завистливую рвотину,
я думаю не об обидчике, —
что будет с родиной?
Неужто и она себя утратит —
с кукушкой над киржацкою болотиной —
и распадётся, как Урарту, —
что будет с родиной?
Не административная система —
блеск её вёрст, на спиннинги намотанный.
Она за белой церковью синела
нерадиоактивною смородиной.
Я не хочу, чтобы кричала небу
чета берёз, белеющих в исподнем.
Отец и мать в моих проснулись генах:
«Что будет с родиной?»
1988
* * *
Я открываю красоту
не как иные очевидцы —
лишь для того её найду,
чтобы с Тобою поделиться.
Увижу ль черносливной косточкой
край Корсики с полёта птицы,
мне сразу возвратиться хочется,
чтобы с Тобою поделиться.
Увижу ли на небе ноготь,
Тобой остриженный, прилипший,
и сердце начинает ёкать,
хоть всем не скажешь из приличий.
Дождливый ёжик по тропе
мерцает, световоды будто.
Я всё равно вернусь к Тебе,
хотя пути уже не будет.
Зрачки наполнив красотой,
чтоб не пролить, сожму ресницы.
К Тебе я добреду слепой,
чтобы собою поделиться.
Сосем иная тишина
та, что предшествовала слову, —
чем поцелованная словно,
что музыкой напоена.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу