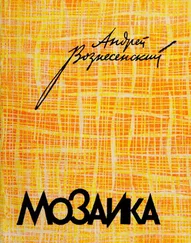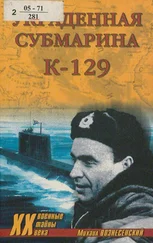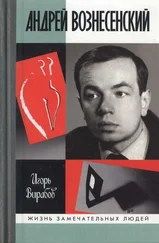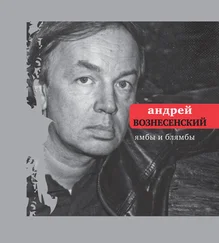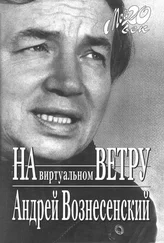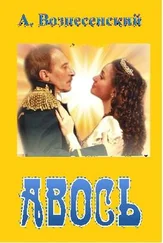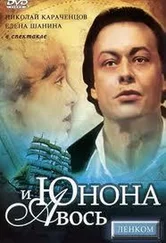Теперь опишу мою внешность с натуры:
Ужасен мой лик, бородёнка – как щётка.
Зубарики пляшут, как клавиатура.
К тому же я глохну. А в глотке щекотно!
Паук заселил моё левое ухо,
а в правом сверчок верещит, как трещотка.
Мой голос жужжит, как под склянкою муха.
Из нижнего горла, архангельски гулкая,
не вырвется фуга пленённого духа.
Где синие очи? Повыцвели буркалы.
Но если серьёзно – я рад, что горюю,
я рад, что одет, как воронее пугало.
Большая беда вытесняет меньшую.
Чем горше, тем слаще становится участь.
Сейчас оплеуха милей поцелуя.
Дешёв парадокс, но я радуюсь, мучась.
Верней, нахожу наслажденье в печали.
В отчаянной доле есть ряд преимуществ.
Пусть пуст кошелёк мой. Какие детали!
Зато в мочевом пузыре, как монеты,
три камня торжественно забренчали.
Мои мадригалы, мои триолеты
послужат обёрткою в бакалее
и станут бумагою туалетной.
Зачем ты, художник, парил в эмпиреях,
к иным поколеньям взвивал свой треножник?!
Всё прах и тщета. В нищете околею.
Таков твой итог, досточтимый художник.
1975
* * *
Как сжимается сердце дрожью
за конечный порядок земной.
Вдоль дороги стояли рощи
и дрожали, как бег трусцой.
Всё – конечно, и ты – конечна.
Им твоя красота пустяк.
Ты останешься в слове, конечно.
Жаль, что не на моих устах.
1976
* * *
Как хорошо найти
цветы «ни от кого»!
Всю ночь с тобой на ты
фиалок алкоголь.
Ничьи леса и гать
вздохнули далеко.
Как сладостно слагать
стихи ни для кого!
1977
ПЬЕТА
Сколько было тьмы непониманья,
чтоб ладонь прибитая Христа
протянула нам для умыванья
пригорошни, полные стыда?
И опять на непроглядных водах
стоком осквернённого пруда
лилия хватается за воздух —
как ладонь прибитая Христа.
1977
УЕЗДНАЯ ХРОНИКА
Мы с другом шли. За вывескою «Хлеб»
ущелье дуло, как депо судеб.
Нас обступал сиропный городок.
Мой друг хромал. И пузыри земли,
я уточнил бы – пузыри асфальта —
нам попадаясь, клянчили на банку.
– Ты помнишь Анечку-официантку?
Я помнил. Удивлённая лазурь
её меж подавальщиц отличала.
Носила косу, говорят, свою.
Когда б не глаз цыганские фиалки,
её бы мог писать Венецианов.
Спешила к сыну с сумками, полна
такою тёмно-золотою силой,
что женщины при приближенье Аньки
мужей хватали, как при крике «Танки!»
Но иногда на зов: «Официантка!» —
она душою оцепеневала,
как бы иные слыша позывные,
и, встрепенувшись, шла: «Спешу! Спешу!»
Я помнил Анечку-официантку,
что не меня, а друга целовала,
подружку вызывала, фарцевала
и в деревянном домике жила
(как раньше вся Россия, без удобств).
Спешила вечно к сыну. Сын однажды
её встречал. На нас комплексовал.
К ней, как вьюнок белёсый, присосался.
Потом из кухни в зеркало следил
и делал вид, что учит «Песнь о Данко».
– Ты помнишь Анечку-официантку?
Её убил из-за валюты сын.
Одна коса от Анечки осталась.
Так вот куда ты, милая, спешила!
– Он бил её в постели, молотком,
вьюночек, малолетний сутенёр, —
у друга на ветру блеснули зубы. —
Её ассенизаторы нашли.
Её нога отсасывать мешала.
Был труп утоплен в яме выгребной,
как грешница в аду. Старик, Шекспир…
Она летела над ночной землёй.
Она кричала: «Мальчик потерялся!»
Заглядывала форточкой в дома.
«Невинен он, – кричала, – я сама
ударилась! Сметана в холодильнике.
Проголодался? Мальчика не вижу!» —
и безнадёжно отжимала жижу.
И с круглым люком мерзкая доска
скользила нимбом, как доска иконы.
Нет низкого для Божьей чистоты!
– Её пришёл весь город хоронить.
Гадали – кто? Его подозревали.
Ему сказали: «Поцелуй хоть мать».
Он отказался. Тут и раскололи.
Но не назвал сообщников, дебил.
Сказал я другу: – Это ты убил.
Ты утонула в наших головах
меж новостей и скучных анекдотов.
Не существует рая или ада.
Ты стала мыслью. Кто же ты теперь
в той новой, ирреальной иерархии —
клочок ничто? тычиночка тоски?
приливы беспокойства пред туманом?
Куда спешишь, гонимая причиной,
необъяснимой нам? зовёшь куда?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу