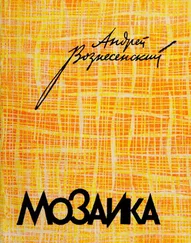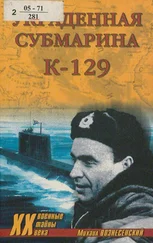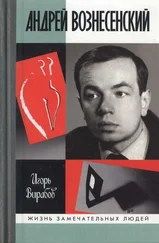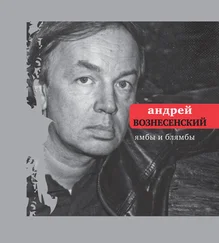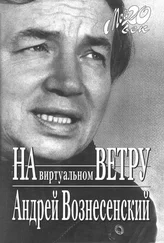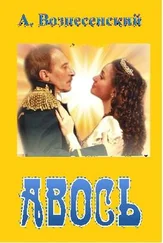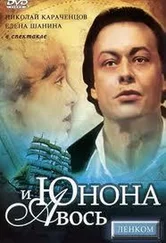Недостойную фразу твою
не стерплю, побледнею от вздору.
Но тебя я боготворю.
И тебе стать другой не позволю.
Эй, послушай! Покуда я жив,
жив покуда,
будет люд тебе в храмах служить,
на тебя молясь, на паскуду.
1973
* * *
Тираны поэтов не понимают, —
когда понимают – тогда убивают.
1973
СЛЕГИ
Милые рощи застенчивой родины
(цвета слезы или нитки суровой)
и перекинутые неловко
вместо мостков горбыльковые продерни,
будто продёрнута в кедах шнуровка!
Где б ни шатался,
кто б ни базарил
о преимуществах ФЭДа над Фетом, —
слёзы ли это?
линзы ли это? —
но расплываются перед глазами
милые рощи дрожащего лета!
1973
* * *
Я не ведаю в женщине той
чёрной речи и чуингама,
ты, возлюбленная, со мной
разговаривала жемчугами.
Простирала не руку, а длань.
Той, возлюбленной, мелкое чуждо.
А её уязвленная брань —
доказательство чувства.
1973
РАЗГОBОР С ЭПИГРАФОМ
Александр Сергеевич,
Разрешите представиться.
Маяковский!
Владимир Владимирович, разрешите представиться!
Я занимаюсь биологией стиха.
Есть роли
более пьедестальные,
но кому-то надо за истопника…
У нас, поэтов, дел по горло,
кто занят садом, кто содокладом.
Другие, как страусы,
прячут головы, —
отсюда смотрят и мыслят задом.
Среди идиотств, суеты, наветов
поэт одиозен, порой смешон —
пока не требует поэта
к священной жертве
Стадион!
И когда мы выходим на стадионы в Томске
или на рижские Лужники,
вас понимающие потомки
тянутся к завтрашним сквозь стихи.
Колоссальнейшая эпоха!
Ходят на поэзию, как в душ Шарко.
Даже герои поэмы
«Плохо!»
требуют сложить о них «Хорошо!»
Вы ушли,
понимаемы процентов на десять.
Оставались Асеев и Пастернак.
Но мы не уйдём —
как бы кто не надеялся! —
мы будем драться за молодняк.
Как я тоскую о поэтическом сыне
класса «Ан» и «707-Боинга»…
Мы научили
свистать
пол-России.
Дай одного
соловья-разбойника!..
И когда этот случай счастливый представится,
отобью телеграмку, обкусав заусенцы:
«ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ
РАЗРЕШИТЕ ПРЕСТАВИТЬСЯ —
ВОЗНЕСЕНСКИЙ»
1973
BЕЧЕР B «ОБЩЕСТBЕ СЛЕПЫХ»
Милые мои слепые,
слепые поводыри,
меня по своей России,
невидимой, повели.
Зелёная, голубая,
розовая на вид,
она, их остерегая,
плачет, скрипит, кричит.
Прозрейте, товарищ зрячий,
у озера в стоке вод.
Вы слышите – оно плачет?
А вы говорите – цветёт.
Чернеют очки слепые,
отрезанный мир зовут —
как ветви живьём спилили,
следы окрасив в мазут.
Скажу я вам – цвет ореховый,
вы скажете – гул ореха.
Я говорю – зеркало,
вы говорите – эхо.
Вам кажется Паганини
красивейшим из красавцев,
Сильвана же Помпанини —
сиплая каракатица,
им пудреница покажется
эмалевой панагией.
Вцепились они в музыкальность,
выставив вверх крюки,
как мы на коньках крючками
цеплялись за грузовики.
Пытаться читать стихи
в «Обществе слепых» —
пытаться скрывать грехи
в обществе святых.
Плевать им на куртку кожаную,
на показуху рук,
они не прощают кожею
наглый и лживый звук.
И дело не в рифмах бедных —
они хорошо трещат —
но пахнут, чем вы обедали,
а надо петь натощак!
В вашем слепом обществе,
всевидящем, как Вишну,
вскричу, добредя ощупью:
«Вижу!» —
зелёное зелёное зелёное
заплакало заплакало заплакало
зеркало зеркало зеркало
эхо эхо эхо
1974
СМЕРТЬ ШУКШИНА
Хоронила Москва Шукшина,
хоронила художника, то есть
хоронила Москва мужика
и активную совесть.
Он лежал под цветами на треть,
недоступный отныне.
Он свою удивлённую смерть
предсказал всенародно в картине.
В каждом городе он лежал
на отвесных российских простынках.
Называлось не кинозал —
просто каждый пришёл и простился.
Называется не экран,
если замертво падают наземь.
Если б Разина он сыграл —
это был бы сегодняшний Разин.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу