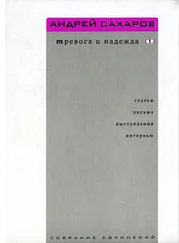(«Сердце сожмется — испуганный ежик…»)
* * *
Вот и улетело время.
Улетело – все-таки, «в поисках утраченного времени», хоть слабую тень улетевшего я пытаюсь вернуть. И вот возникает в памяти Рижский залив. Потом видел я воды поярче: Адриатику, Эгейское море и, главное, Тихий океан у Гавайских островов – он иногда бывает лазурно-фиолетовым, это великолепнее всего. И все же тянет меня к Балтийскому морю. («В ожидании окончания…»).
Покажись моя Атлантида! И я вижу серебристую даль и гладь. Светлый мягкий, нежный песок блаженно холодит босые ноги мальчугана в мокром полосатом трико с короткими рукавами и круглым вырезом вокруг загорелой шейки. Мать идет ему навстречу, и мальчик прижимается к чесучовому бледно-бледно-желтоватому платью и легчайшей красно-сине-зеленой косынке на маминой руке. И отец тоже в чесучовом костюме ерошит мне волосы и спрашивает: «Что, головастик, набегался?»
Дня за три до отъезда захотелось оставить мне очевидный для всех след моего пребывания — у моря? в мире? Не знаю. На влажном гладком песке шагах в трех от воды я веточкой вывел печатными буквами и с твердым знаком: «Ирикъ Чинновъ». Перед отъездом прошлись мы по пляжу еще раз. Но автографа моего уже не было.
И вот теперь «в ожидании окончания» — снова стараюсь я закрепить какие-то следы своей жизни, снова хочу оставить автограф. Да, оставить после себя хоть маленькую памятку о себе и еще о чем– то из того, что с моею жизнью было связано. Лет пятнадцать назад я написал: «Я все еще помню Балтийское море…»
Нет, слава Богу, журчанье беспамятства еще не заглушает воспоминаний. Память жива — особенно память о той красоте мира, которую удалось мне увидеть; я вижу ее даже гораздо отчетливей, чем раньше: «А белая птица так низко летела…»
Помню у мамы на темно-красном письменном столике несколько книг тургеневски-либерального направления (их ветер иногда прикрывал тюлевой занавеской) да около неизменной вазы с цветами — антология «Русская муза»; на антологию часто падал лепесток, тоненький, вялый, нежный. А еще лежали на столе переплетенные в зеленый сафьян страницы пожелтевшие записок «В мире отверженных»: вместе с «Русской музой» – все, что осталось в русской литературе от человека, которого у нас в семье звали Петя Якубович.
Петр Филиппович Якубович, иначе Мельшин, иначе П.Я., иначе Рамшев, — это был двоюродный брат моей матери, любимейший, от всех отличенный. Из двух сестер Косаговских Елизавета Дмитриевна вышла за Цвейгберга, моего деда (уже не фон Цвейберга, а просто), Екатерина — за Филиппа Якубовича. Имения находились по соседству, оба в Новгородской губернии, Крестецкого уезда. Якубовичи, в далеком прошлом важные шляхтичи Речи Посполитой, по традиции были драчуны. Правда, один полковник Якубович был драчуном законопослушным — вел царицыны войска в бой против Пугачева, без особых, впрочем, успехов, отчего и был заменен Микелсоном. (Воображаю, как изливал полковник свой гнев на чад и домочадцев!) Но в следующем столетии другого Якубовича Александра Ивановича, потянуло к мятежникам: захотел побунтовать против царского орла, сыграл роль в восстании декабристов, хотя и чуть менее эффектно, чем можно было ожидать от этого романтического героя, позера, бретера (описанного Мережковским в «Александре Первом и декабристах» весьма язвительно). «Петя» Якубович бунтарский дух шляхетных предков, только без их гонора, унаследовал полностью. В партии народовольцев был он одним из виднейших, любимейших, революционная молодежь на него молилась. На сибирской каторге внушил мой дядя уважение даже уголовникам – редкая удача для интеллигента. Там, в сибирском остроге, он и женился — на еврейке Розе Франк, тоже политзаключенной, — огорчив родню чуть ли не больше, чем участием в революционном терроре. «Столбовой дворянин, — плакалась тетка его, моя бабушка, — и с кем судьбу свою соединил. А?! Ведь она же не христьянка даже, фу ты, Господи! Прямо как лукавый попутал!» – Так передавала мама бабушкины иеремиады.
Сын Пети Якубовича и Розы Франк стал известным пушки» ведом, внук — одним из борцов за гражданские свободы.
Думаю, что террорист Петр Филиппович террористом был на манер патрона своего Петра Апостола, отрубившего ухо представителю власти Христа ради. Вне «политической борьбы» походил он скорей на Франциска Ассизского. Мама рассказывала: придет Петя Якубович в каком-то тряпье, сразу его в баню, оденут во все новое, дадут денег – а он через несколько дней опять возвращается в ошметках: оказывается, зашел в ночлежный дом и поменялся одеждой с каким-то босяком, ты представляешь? И все деньги роздал!
Читать дальше