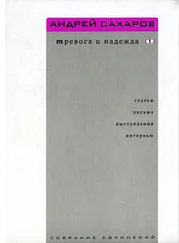Правду говоря, музыкален я не был — не стал и позже. Все-таки почувствовал в свое время рояльную музыку: большие хрустальные овальные капли падали, вдруг быстро проливались, низвергались ливнем, потом опять падали, каждая отдельно, и все же в каком-то едином хрустальном строе. А теперь всего милей мне та музыка, из которой возникает большая полутемная комната с окнами, распахнутыми в ночной сад: легкая прохлада подымается из летней ночи почти не колеблются свечи, почти нет ночных бабочек. Четыре человека неподвижно слушают: один опустил подбородок на скрещенные пальцы, другой глубоко откинулся в кресло. И две обнаженные руки, смутно белея, медленно движутся, длинные пальцы то медленно, то быстрее прижимают клавиши. Шуман? Шуберт? Шопен? Ш-ш, именно ш-ш. Душка Мнемозина. Тише! Шурша опускается занавес над недовоскресшим прошлым. Перевернем страницу, как тот памятный мне человек, больше полувека назад перелистывавший ноты в нашей гостиной.
Перевернем страницу.
Именно там, в Юрьеве, нынешнем Тарту, началась и моя литературная деятельность: я сочинил двустишие в жанре интимной лирики, полное тихой жалобы на грустную мою долю, совсем в тоне «парижской ноты», и явно предваряющее сборник мой «Монолог»:
У меня пузинько биби,
Я хочу каку и пипи.
Непогрешимость ритма, нежная деликатность рифмовки была мне свойственна, как видите, уже тогда.
Вижу себя своих юрьевских времен: белое плюшевое пальтецо с таким же капором, золотисто-коричневатое плюшевое пальтецо и такой же капор. Сохранилась карточка: я с челкой — прическа пажа, один глаз почему-то чуть больше другого, но личико хорошенькое, темно-зеленая (я помню) бархатная курточка с кружевами, руки в боки, взгляд скорее задумчивый.
Родители довольно часто уезжали в Петербург на концерты, в театры. Однажды мама поехала со мной — не на концерт, в Петербург. Помню темно-оранжевые стены внутреннего двора-колодца где-то на Литейном проспекте. Дом принадлежал дяде Коле, маминому брату, придворному архитектору. В квартире было много комнат, все длинные, темные (неужели дядя сам так построил?): темные обои, столовая темного дуба. Вечерело, в кабинете, похожем на отцовский, с великим множеством книг, дядя — грузный, пузатый, холеный, красивый — сел в щелкнувшее кожаное кресло, посадил меня на колени. Я стал играть брелоками на его часовой цепочке — их было много, приманчивых, очень красивых, папа ничего подобного не носил. Когда зажгли лампы, на брелоках волшебно заиграли искорки. Может быть, брелоки и укрепили во мне любовь к красивым пустячкам? Но и укрепили уменье любоваться? Как бы я без этого прожил?
Потом были гости, человек тридцать, и дядя вдруг потребовал, чтобы я с ним пел. Он окончил консерваторию, а у меня был свой рояль. Почему нет? Под аккомпанемент его приемного сына, двадцатилетнего, черноволосого, смешливого, спели мы с дядей дуэт Даргомыжского:
В селе малом Ванька жил,
Ванька Таньку полюбил.
Ванька в дудочку играет,
Танька песенку поет…
Потом оказалась в ванькиных руках дудочка посерьезнее.
В годы военного коммунизма дядя Коля умер в Петербурге от голода – кажется, почти в одно время в другим моим, уже не родным, троюродным, но все-таки дядей – Якубовичем, профессором по детским болезням, человеком более нужным, чем архитектор…
В ночь после столь успешного артистического выступления мне не спалось – совсем как Шаляпину. В окне была тонкая полоска неясного света, постепенно ясневшая. Я продолжал видеть огненные хрусталики люстры, отражения в зеркалах, даму в нежно-сером шелковом платье, картинно сидевшую бочком на золоченом тоненьком стуле. Палевая обивка стульчика – часть обивки, не закрытая платьем, казалась палевой розой. Или тогда не казалась, кажется мне только теперь?
Как-то провели мы лето недалеко от Юрьева в Газелау, рядом с мызой барона Палена, коллеги моего отца. Об этих местах написал я года три назад стихотворение «Я помню телега в полях предвечерних…».
К лету мы обычно уезжали на Рижское взморье. Оставались долго. Белые дощатые домики с крышами гребешком, сосны. На веранде с рубиновыми и синими стеклами в уголках рам топился (на сосновых шишках) самовар — дымный, прекрасный аромат этот я чувствую и сейчас; только самовар, стоящий у меня в столовой медный, старый, Баташова в Туле, купленный в Нью-Йорке, уже некому разогреть. Прошлым летом в Истамбуле на Большом Базаре увидел я несколько самоваров с табличкой внизу: «semovar». Приятно знать, что турки зовут самовар русским именем. И сквозь базар проступила наша дача, белая скатерть стола, стволы сосен. Привет, привет, «семовары». Привет и вам, семафоры на Рижской железной дороге, зеленые огоньки на далекой дороге в детство. Вдоль дороги были сосны, вереск, дальше черника — почти сапфирная после дождя. Мы собирали чернику и грибы. Это было счастье. Розово-сиреневые сыроежки похожи были на цветы. Вечером» жарили в сметане, с луком; ничего вкуснее я не ел никогда.
Читать дальше