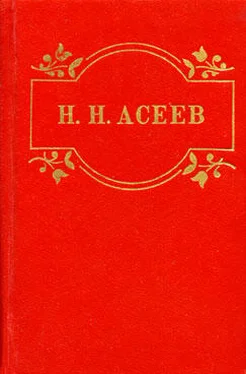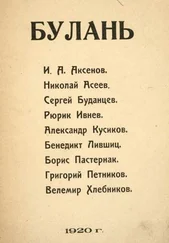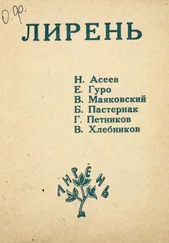Нет, врете!
Рубиха вас разоблачает,
со всем вашим скарбом
прогорклым в душе.
Трактир ваш дешевый
с подачею чая,
с приросшею к скважине
мочкой ушей.
Ловчите,
примеривайте,
считайте!
Ничем вас не сделать
смелей и новей —
весь круг мирозданья
сводящих к цитате —
подросших
лабазниковых сыновей.
Вы, впившиеся
в наши годы клещами,
бессмысленно вызубрившие азы,
защитного цвета
литые мещане,
сидевшие в норах
во время грозы.
Я твердо уверен:
триумф ваш недолог;
закончился круг
ваших тусклых затей;
вы — бредом припомнитесь,
точно педолог,
расти не пускавший
советских детей.
К примеру:
скажите, любезный Немилов,
вы — прочно привержены
к классике форм
и, стоя
у «Красной нови» у кормила,
решили,
что корень кормила — от «корм»?
Вы бодро тянули
к чернилам ручонку,
когда,
Либединского
выся до гор,
ворча,
Маяковскому ели печенку;
ваш пафос —
не уменьшился с тех пор?
А впрочем,
что толку —
спросить его прямо?!
Он примется
с шумом цитаты листать.
Его наделила с рождения мама
румянцем таким,
что краснее не стать!
Так вот,
у таких и отцы были слизни;
их души тревожил
лишь шелест кушей.
А Вася Каменский —
возьми да и свистни
в заросшие волосом
дебри ушей.
Ух, и поднялось же:
«Разбой! Нигилисты!
Они против наших музеев и книг!»
Один — даже —
модный профессор речистый
«явленье антихриста»
выявил в них.
А свист был — веселый,
заливистый,
резкий!
Как нос ни ворочай,
куда ни беги,
он рвался — за ставни,
за занавески,
дразня их:
«Комолые утюги!»
Тот свист был —
всему
прожитому до реди,
всему
пережеванному на зубах,
всему,
что свалялось в родные,
в соседи,
что пылью крутилось
в дорожных клубах.
Как вам рассказать
о тогдашней России?..
Отец мой
был агентом страховым.
Уездом
пузатые сивки трусили.
И дом
упирался в поля —
слуховым.
И в самое детство
забытое, раннее —
я помню —
везде окружали меня
жестянки овальные:
«Страхование —
Российского общества —
от огня».
Слова у отца непонятны:
как полисы,
как дебет и кредит,
баланс и казна…
И я от них бегал
и прятался по лесу,
и в козны
с мальчишками дул допоздна.
А ночью
набат ударял…
И на голых
плечах,
что сбегались,
спросонья дрожа,
пустивши приплясывать
огненный сполох,
в полнеба плечом
упирался пожар.
Я видел,
как, бревна обняв и облапив
и щеки мещанок зацеловав,
прервав стопудовье
зловещего храпа,
коробит огонь
жестяные слова.
«Российского общества»
плавилась краска,
угрюмые
рушились этажи…
И все это было
как страшная сказка,
которую хочется пережить.
Я вырос
и стал бы, пожалуй, юристом.
А может — бандитом,
а может — врачом.
Но резкого зарева
блеском огнистым
я с детства был
взбужен
и облучен.
И первые слухи
о новом искусстве
мне в сердце толкнули,
как окрик: «Горим!»
В ответ им
безличье, безлюдье, безвкусье,
ничей с ними голос
несоизмерим.
В ответ им
беззубый,
безлюбый,
столетний
профессорски старческий вышамк:
«Назад!»
В ответ им
унылой,
слюнявою сплетней
доценты с процентами вкупе
грозят.
Язычат огнями
их перья и кисти,
пестреет от красок
цыганский их стан,
а против —
желтеют опавшие листья,
что стряхивает с холста
Левитан.
И тысячи
пламенной молодежи,
которая вечно
права и нова,
за ними идут,
отбивая ладоши,
глядеть,
как горят
жестяные слова!
ГОЛОС ДОКАТЫВАЕТСЯ ДО ПЕТЕРБУРГА
Здесь город был.
Бессмысленный город…
Маяковский, «Человек»
Одесса грузила пшеницу,
Киев щерился лаврой,
Люди занимались
самым разнообразным трудом,
и никому не было дела
до этой яркой и ярой
юности,
которой был он
в будущее
ведом.
Однажды он ехал,
запутавшись в путанице
колей, магистралей,
губерний, лесов,
и в тряском вагоне
случайная спутница
укором к нему
обратила лицо:
«Маяковский!
Ведь вот вы — наедине —
и добрый и нежный,
а на людях — грубы».
В минутном молчанье
оледенев,
широкой усмешкой
раздвинулись губы:
«Хотите —
буду от мяса бешеный, —
и, как небо, меняя тона, —
хотите —
буду безукоризненно нежный,
не мужчина,
а облако в штанах!»
Как пишет он:
«Это было в Одессе» —
его приобщение
к облакам;
с ним жизнь начинала
чудить и кудесить,
пускать
по чужим любопытным рукам.
И как бы те ни были руки
изнежены,
и как бы ни прикасались легко, —
скорей
сквозь буран он продрался бы
снежный
по скату
соскальзывающих ледников.
Скорей бы
нагрудник
действительной грубости
и в горло —
действительный рев мясника,
чем медная мелочь
общественной скупости,
к земле заставляющая
поникать.
Читать дальше