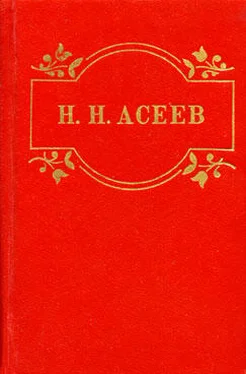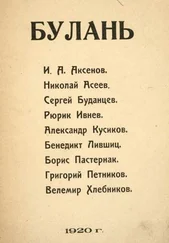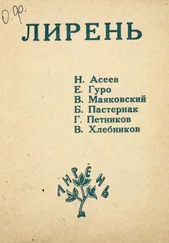РАЗГОВОР С НЕИЗВЕСТНЫМ ДРУГОМ
В шалящую полночью площадь,
В сплошавшую белую бездну
Незримому ими — «Извозчик!»
Низринут с подъезда. С подъезда…
Пастернак, «Раскованный голос»
Теперь разглядите,
кого опишу я
из тех —
кто имеет бесспорное право
на выход
в трагедию эту большую
без всяческих объяснений
и справок.
Нас всех воспитали и образовали
по образу своему и подобью;
на собственный лад
именами назвали,
с младенчества приучая
к надгробью.
Но мы же метались,
мы не позволяли,
чтоб всех нас
в нули округляли по смете:
кистями,
мелодиями рояля,
стихами —
дрались
против пыли и смерти.
Мы, гневом захлебываясь,
пьянели,
нам море былого
было по колени,
и мы выходили
пылать на панели
глазами блистающего
поколенья.
Нет,
мы не давались
запрячь нас в упряжку!
Ведь то и входило
нам жизни в задачу,
чтоб
не превратиться
за денежку-бляшку
в чужого нам промысла
тощую клячу.
В четыре копыта
лошажья походка;
на лошади двигаться —
предкам пристало.
А если
вокруг задувает
погодка?
А если
дорогу
пургой обсвистало?
В четыре стопы
не осилишь затора,
уж как бы уютно вы
в сани ни сели…
И только
высокая сила мотора
полетом слепым
нас доводит до цели.
И как бы наш критик
ни дулся,
озлоблен,
какие бы
нам ни предсказывал
дали, —
ему не достать нас
кривою оглоблей,
не видеть,
как в тучах мы
запропадали.
О нет,
завожу не о форме
я споры;
но —
только взлечу я
над ширью земною, —
заборы, заборы,
замки и затворы
преградой мелькают
внизу подо мною.
Так что мне
в твоей философии тихой?
Таким ли —
теней подзаборных
пугаться?
Ведь ты же умеешь
взрывать это лихо,
в четыре мотора
впрягая Пегаса.
А я не с тобою
сижу в этот вечер,
шучу, и грущу, и смеюсь
не с тобою.
И в разные стороны
клонятся плечи,
хоть общие
сердцу страшны перебои!
Неназванный друг мой,
с тобой говорю я:
неужто ж безвстречно
расходятся реки?
Об общем истоке
не плещут, горюя,
и в разное море
впадают навеки?
Но это ж и есть
наша гордость и сила:
чтоб — с места сорвав,
из домашнего круга,
нас силой искусства
переносило
к полярным разводьям
зимовщика-друга.
Ты помнишь тот дом,
те метельные рощи,
которые —
только начни размораживать —
проснутся
от жаркого крика:
«Извозчик!» —
из вьюги времен,
засыпающей заживо.
Мороз нам щипал
покрасневшие уши,
как будто хотел нас
из сумрака выловить,
а ты выбегал,
воротник отвернувши,
от стужи,
от смерти спасать
свою милую.
Ведь уши горели
от этого клича,
от этого холода времени
резкого!
Ведь клич этот,
своды годов увелича,
по строчкам твоим
продолжает свирепствовать!
Так ближе!
Не в буре дешевых оваций
мы голос натруженный
сдвоим и сгрудим,
чтоб людям
не ссориться,
не расставаться,
чтоб легче дышалось
и думалось людям.
Ведь этим же
и определялась задача,
чтоб все,
что мелькало
в нас самого лучшего,
собрать,
отцедить,
чтоб, от радости плача,
стихи наши стали
навеки заучивать.
Ведь вот они —
эти последние сроки, —
задолженность молодости
стародавняя, —
чтоб в наши
суровые
дружные строки
сегодняшних дней
воплотилось предание.
Мне
и рубля
не накопили строчки…
Маяковский, «Во весь голос»
Не в приступе сожалений поздних
и не для того,
чтоб умаслить молву, —
боясь,
чтоб не вышел
великопостник, —
я начинаю эту главу.
Мне в Маяковском
важны — не мощи,
не взор,
горящий бесплотным огнем;
страшусь,
чтоб не вышел он
суше и площе,
чем жизнь —
всегда клокотавшая в нем.
Теперь,
на стене,
застеклен и обрамлен,
глядит он с портретов,
хмур и угрюм.
А где ж
его яростный темперамент,
везде поднимавший
движенье и шум?
Разве
из этого матерьяла
он сделан,
что тащат биографы в ГИХЛ?
В нем каждая жилка
жизнью играла
и жизнью играть
вызывала других!
Но мало было игроков:
один — хоть смел,
да бестолков;
другой — хоть и толков,
да скуп:
навар —
на свой снимает суп…
Обычный вид:
соратник
тыщонок сто царапнет
и мчит,
зажав под мышку,
запихивать на книжку.
Устроились все
от велика до мала;
обшились, отъелись,
зажили на дачах.
Такая ли участь
его занимала —
зарытых костей
да зажатых подачек?
Он все продувал
с быстротою ветра;
ни денег,
ни силы своей — не жалел.
Он сердца валюту
растрачивал щедро.
Сердца — а не желе!
Читать дальше