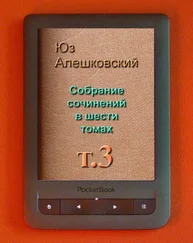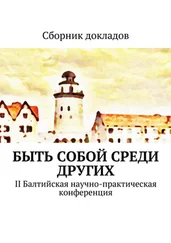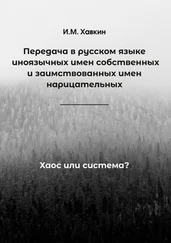Нам тело не распинают,
А душу распяли давно.
И мы это сами знаем,
Но нам уже все равно.
Так вырвем у нашей жизни,
Что можно вырвать, отнять,
Все судорожней, капризней,
Все гибельнее — как знать!
1950-е годы
«Украдкою… — от слова "кража"…»
Украдкою… — от слова «кража» —
Родится ласка в тишине.
Мы не выходим из-под стражи,
За нами смотрят и во сне.
Глаза чужие рядом, близко,
Глаза, как грязная вода,
Нас заливают мутью склизкой
И день, и ночь, всегда, всегда.
1954 год
Кругом народ — неизбежные посторонние.
Ну как нам быть при этом с любовью?
Если рука так ласково тронет,
Разве можно сохранить хладнокровие?
Глаза наточены, наточены уши
У этих всех… наших ближних.
Они готовы просверлить нам душу,
Ощупать платье — верхнее, нижнее.
А ну-ка представим себе помещение,
Где на воле нам жить придется.
Оконца слепые для освещения,
Под щелястым полом скребется
То ли крыса, то ли другая гадина.
А кругом-то все нары, нары.
А на нарах… Боже! Что там «накладено»:
Тряпки, миски. И пары, пары…
Морды, которые когда-то были
Человеческими ясными лицами.
И мы с тобой здесь… Но не забыли,
Что когда-то жили в столице мы.
Мы поспешно жуем какой-то кусок.
Надо спать, не следует мешкать.
И ложимся тихонько мы «в свой уголок»
В темноте зловонной ночлежки.
Ну как же при этом быть с любовью?
Кругом народ — посторонние.
На грязной доске, на жестком изголовье
Мы любовь свою похороним.
Похороним, оплачем, все-таки веря,
Что это все временно терпим мы.
Что мы не пошляки, не грубые звери
В этом мире спертом и мертвенном.
«Временно, временно»… А время тянется,
А для нас когда время наступит?
Быть может, когда в нас жизни останется
Столько же, сколько в трупе.
Ты боишься, что Ужас Великий грянет,
Что будет страшней и хуже.
А по-моему, всего страшней и поганей
Наш обычный, спокойный ужас.
1954 год
«Загон для человеческой скотины…»
Загон для человеческой скотины.
Сюда вошел — не торопись назад.
Здесь комнат нет. Убогие кабины.
На нарах брюки. На плечах — бушлат.
И воровская судорога встречи,
Случайной встречи, где-то там, в сенях.
Без слова, без любви.
К чему здесь речи?
Осудит лишь скопец или монах.
На вахте есть кабина для свиданий,
С циничной шуткой ставят там кровать;
Здесь арестантке, бедному созданью,
Позволено с законным мужем спать.
Страна святого пафоса и стройки,
Возможно ли страшней и проще пасть —
Возможно ли на этой подлой койке
Растлить навек супружескую страсть!
Под хохот, улюлюканье и свисты,
По разрешенью злого подлеца…
Нет, лучше, лучше откровенный выстрел,
Так честно пробивающий сердца.
1955 год
«Трезвая, но я была пьяна…»
Трезвая, но я была пьяна,
Мне приснилась белая весна,
Ветер с океана и пурга,
Внезакатный майский день, снега,
И что ночь светлей и жарче дня,
Что коснулась молодость меня.
1955 год
«Море Черное, море Каспийское…»
Море Черное, море Каспийское,
Жгучий ветер и жгучий песок…
Все заветное, все византийское
Отошло от меня на восток.
Только вьюги победные, белые,
Запоздалый лихой ледоход.
Только сердце оцепенелое
То ударит в груди, то замрет.
1955 год
«Метель июне. Кто поверит?..»
Метель июне. Кто поверит?
Не меркнет ночи пьяный свет.
За мной мой след бежит от двери,
На белом ярко-черный след.
Предательский — он слов не знает,
Но говорит яснее слов…
Пусть на него метель шальная
Накинет легкий свой покров.
Сияют ночи и метели
В июне снова, как тогда,
Но я не подымусь с постели
И я не выйду никуда.
1955 год
«Надо помнить, что я стара…»
Надо помнить, что я стара
И что мне умирать пора.
Ну, а сердце пищит: «Я молодо,
И во мне много хмеля и солода,
Для броженья хорошие вещи».
И трепещет оно, и трепещет.
Даже старость не может быть крепостью,
Защищающей от напастей.
Нет на свете страшнее нелепости,
Чем нелепость последней страсти.
Читать дальше