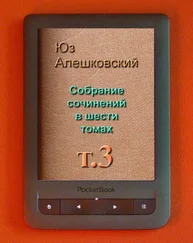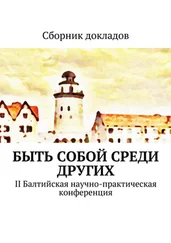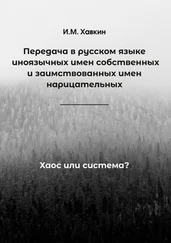Когда во время вторичного допроса в Москве следователь начал материться, Нина Ивановна ответила ему колымским матом. Первый срок она отбывала на Колыме. Ее колымский монолог длился несколько минут. Следователь обалдел. Больше он уже не матерился. Но я на Колыме не была и вообще ненавижу матерщину.
Назавтра, когда я поливала цветы у комендатуры, мимо меня прошел Новиков. В ту пору, к сожалению, недолгое время, он был начальником лагеря. Он не унижал человеческого достоинства заключенных, он не тыкал, от него мы услышали слова, которых не слышали долгие годы: «Я вас прошу». И это «прошу» было сильнее любого приказа. Новиков спросил меня: написала ли я свое последнее в году письмо? Я молча отрицательно покачала головой.
Через несколько дней он опять спросил. Тут я не выдержала: «Зачем мне писать, если мои письма все равно не доходят?» — «А вы напишите и отдайте лично мне».
Через две недели я получила ответ. Этого я никогда не забуду.
Как не забыть и самоубийства конвойного.
Неизвестному солдату
Застрелился молодой конвойный.
Пулевая рана на виске.
Будет ли лежать ему спокойно
В нашем мерзлом лагерном песке?
Что ночами думал он, терзаясь,
Почему не мог он службу несть,
Нам не скажут. Но теперь мы знаем —
И среди конвойных люди есть.
~~~
Случись мне встретиться с Новиковым в Москве, я позвала бы его к себе в гости. А вот цензору Усову я руки не подам. Своим правом не пропускать определенный процент писем он пользовался издевательски. Он публично сжигал непрочитанные письма, бросая в огонь нераспечатанные конверты. Женщины, глядя на это аутодафе, плакали.
Он не передал книги, которые мне прислали: «Вам уже незачем читать». Он с презрительной усмешкой швырну мне под ноги письмо, присланное из дома. Швырни он на пол что-нибудь другое, я бы не стала поднимать. Но это было письмо моей матери.
Ты, мама, только ты!
Что медицина?
— Детская игра…
Раз в кровь твою
проникнула зараза,
Ты осужден,
ты будешь умирать,
Но медленно, мучительно,
не сразу.
Боль будет жечь, сверлить,
пилить, молоть,
И вопль костей
одна лишь смерть заглушит
Но если страшно
умирает плоть,
Еще страшнее умирают души.
Ты никто — вошь!
Все властны над тобой.
Подъем! Отбой!
Кому сказано: стой!
Прятала в наволочке
свое барахло,
В домашней рубашке
родное тепло.
Надзор выгнал на двор:
шмон!
Все, что берег, —
под сапог!
Все, что твое, —
вон!
А издеваться
как падки!
Хочет —
обыщет тебя солдатка:
«Ноги раздвинь,
рот раскрой!»
Как не потешиться
над тобой!
Хочет цензор —
письма сожжет,
Хочет «опер» —
в карцер пошлет.
Хочет, хочет, хочет! —
Как спорт!
«Это вам лагерь,
а не курорт!» —
«Люди? А разве вы ими были?» —
«Не навредили б,
не посадили». —
«Раз посадили,
свое заслужили…»
Каждое слово
стегает, как плеть.
Как тут душе
не помереть.
Овчарки на поводках
рвутся и воют;
«Бригада!
В полное подчинение конвою!
В случае неподчиненья
стреляем без предупрежденья».
И полночь так же мне страшна,
как день.
Я щупаю свою сухую кожу.
Кто я? Статья? Пункт?
Номер? Или тень?
Урод, на человека не похожий?
Быть может,
я совсем и не была,
И мне приснилось все,
что было прежде…
Нет, не друзья —
ты, мама, ты одна
Моя
последняя надежда.
Ты — та,
которая мне жизнь дала,
Скажи им всем,
бесчувственному люду,
Скажи им всем,
что я была,
Что я была,
и есть, и буду!
~~~
Как сохранить человеческое достоинство, спасти от смерти душу? Грустно, но приходится признаться, что многие советские люди оказались морально неустойчивыми. Сталинщина виновата не только в уничтожении миллионов людей, но и в растлении целых поколений. Люди, воспитанные на лжи, привыкли голосовать «за», зная, что по совести надо голосовать «против».
Для верующих в лагере моральной опорой была религия. Даже здесь, за колючей проволокой, для католиков власть церкви оставалась в силе. Мы думали, что француженка мадам Отт обрадуется, узнав, что одной из лагерниц прислали Мопассана, и захочет его прочесть. Мадам спросила: «Что это за книга?» Она не читала и не будет читать те произведения Мопассана, на которые католической церковью, как на «Овод» Войнич, наложен запрет. Когда ей сказали, что здесь ксендзов нет, и никто не увидит, какая книга у нее в руках, мадам ответила: «Увидит Бог».
Полька по национальности, католичка Ангеля С. (мы ее звали просто «Галя»), прямо со школьной скамьи выскочила замуж. Ее семейная жизнь была очень короткой. Галю арестовали за то, что она стояла в карауле у могилы Пилсудского. Был арестован и ее муж. Галя не сомневалась в том, что после десяти лет разлуки они должны соединиться, ведь «браки заключаются на небесах».
Читать дальше