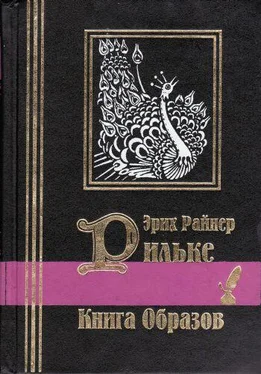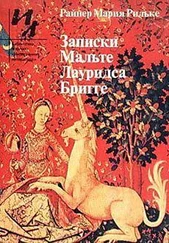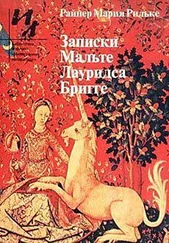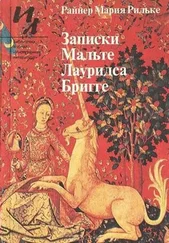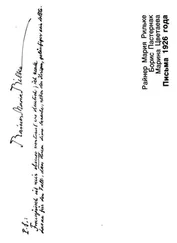хоть Тот лица не обращал из теми.
На холст распятый он смотрел все время,
где бледная луна все ледяней
студеными лучами осыпала
людскую свору, вздыбленную шало,
а посредине грозного кагала
стоял какой-то чахлый лиходей
и был Он, как предатель, меж людей.
Любовь его, как совесть, донимала,
сумятица волос росла густей,
как в драной ризе, виснущей с костей,
достоинства в нем не было нимало,
и нищего пугался рой детей.
Просвет лица из тьмы, как из-под арок,
художнику был чуждый, но подарок
от человека из знакомой мглы.
Он холст когтил, цепляясь за углы
и с сердцем, словно стиснутым в кулак,
затравлен страхом, в трепете воскрылии
душой летел к надежде, к тайной были
и думал обрести просвет в них или
окно-лазейку в никуда, во мрак.
Но не успел обресть — уже скользили
с картины взгляды, и его спросили:
«Зачем же ты меня рисуешь так?
Иль так сидел я у твоей постели,
когда в бреду ребячьем бился ты?
И разве так глаза мои блестели,
сей кладезь храбрости и доброты?
А как я встал у гробовой плиты
над матерью твоей? В таком ли теле?
Иль позабыл меня ты в самом деле,
что нынче исказил мои черты?»
Как цвет, опавший тихою весной,
ждет, что его в траве покроют росы,
так нежно падали Его вопросы
и шелестели, точно ветр лесной.
Но живописец от стыда ослаб
и в нетерпенье, как пугливый раб,
цвет растоптал и грозно сжал кулак:
«Тебя всегда я видел только так».
А тот, кто был как грешник, вновь живет,
и во всю стену тень его растет,
и голос разливается зарницей:
«Ты думаешь, отец мой — не патриций?
Был бедностью я вскормлен бледнолицей
и оттого наследной багряницей
алеет катова печать на мне.
Я с отцом знатность не впитал и сице
реку: Царем я был в своей родне,
рабом же стал о смертном дне.
Стал в смерти Богом. Только неизвестный
бог мог бы быть велик в слепой и тесной
толпе, как бык, ревущей искони
о Господе. Но все равно когда-то
добудет чернь, усердием богата,
богов себе с восхода и заката,
и вот в молитвах, как в руках у ката,
умрут они».
Исчез он весь, от пят до темени,
белый в копотном мраке,
но живописцу слова, как знаки,
веяли ласково из темени
вне времени:
…Я в тех же ризах и в тех же нуждах
зябнуть друзей за собой поведу,
но пред очами душою чуждых
стану владыкою на виду:
Пиши, как изранен чудесами
и скоробью кровавый мой багрец,
и над убогими волосами
духа вознеси венец,
и все сиянье любви вмести
в мою щепоть, дабы светом этим
я расточил без остатка детям
небо где-нибудь по пути.
Перевод С. Петрова
За полночь. И за ручку чьи-то души
домой уводит темный час ночной.
А в «Ангельском» на полинялом плюше
уселись двое. В зале дым сплошной.
И половые желтые все суше
глядят на них и ходят стороной.
Он с женщиной. А дальнего гарсона
совсем засыпал сон. Как на засов,
закрыт он. Лампы вздрагивают сонно,
и стены тают в мороке притона,
и еле каплет время из часов.
Она склоняется. Из рукавов
волн исто-голубых, как пара псов,
чета морозных рук бежит влюбленно.
«Нет, бледненький, грустить здесь не годится!
Ты — нелюдим, ну как с тобой водиться?
Одни мы. Я красива и стройна.
За красоту! Да что же ты водицу?»
И на весь зал: «Эй, половой! Вина!»
«Я пить не стану». И глядит в упор.
Брось, миленький! Без мудрых поучений!
Шампанское, оно всего священней!
И пить тебя я обучу. На спор!
Иль у тебя какой зарок загадан?
Взгляни, как бисерится пенный бой!
Вот он и есть в соборах наших ладан,
покалывать стекло бокалов рад он…
Пей за любовь, не думай над судьбой!
И пенистое золото до дна
она высасывает из бокала,
и он стоит пустой, мерцая ало.
Тогда белеющей рукой она
расстегивать фишю на шее стала,
и так же, как морская глубина
вздыхая волнами светлей опала,
вдруг остров выдохнет, теперь видна
из мрака шея. Руки шарят шало
по бледному соседу. Из груди
горячий шепот, близкий к поцелую:
«Ты еще молод! Не дури, не жди!
Хватай! Немного счастья впереди,
И не мечтай, и не живи впустую!
Охулки на руку ты не клади!»
Тут на Него, как ветер, оголтело
неведомая сила налетела,
в душе студеной воля раздалась.
Он женщину схватил, как зверь, и враз
вонзаясь пальцами остервенело,
рвет шелк с нее и не спускает глаз.
Читать дальше