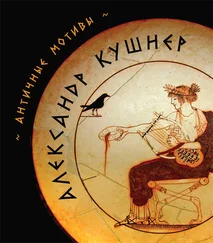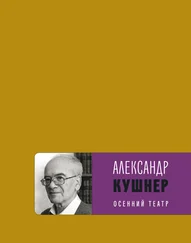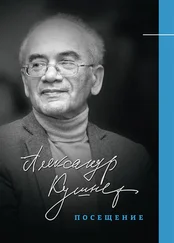и сам в пылу внушенья,
как сердобольный врач,
нуждаясь в утешенье.
Он плачет потому,
что нет конца мученью,
что я кажусь ему
безжизненною тенью;
как с этой стороны
стекла, где ссохлась муха,
глаза мои темны,
в них холодно и сухо.
* * *
Жить в городе другом – как бы не жить.
При жизни смерть дана, зовётся – расстоянье.
Не торопи меня. Мне некуда спешить.
Летит вагон во тьму. О, смерти нарастанье!
Какое мне письмо докажет: ты жива?
Мне кажется, что ты во мраке таешь, таешь.
Беспомощен привет, бессмысленны слова.
Тебя в разлуке нет, при встрече оживаешь.
Гремят в промозглой мгле бетонные мосты.
О ком я так томлюсь, в тоске ломая спички?
Теперь любой пустяк действительней, чем ты:
На столике стакан, на лётчике петлички.
На свете, где и так всё держится едва,
На ниточке висит, цепляется, вот рухнет,
Кто сделал, чтобы ты жива и нежива
Была, как тот огонь: то вспыхнет, то потухнет?
* * *
Чётко вижу двенадцатый век.
Два-три моря да несколько рек.
Крикнешь здесь – там услышат твой голос.
Так что ласточки в клюве могли
Занести, обогнав корабли,
В Корнуэльс из Ирландии волос.
А сейчас что за век, что за тьма!
Где письмо? Не дождаться письма.
Даром волны шумят, набегая.
Иль и впрямь европейский роман
Отменён, похоронен Тристан?
Или ласточек нет, дорогая?
СИРЕНЬ
Фиолетовой, белой, лиловой,
Ледяной, голубой, бестолковой
Перед взором предстанет сирень.
Летний полдень разбит на осколки,
Острых листьев блестят треуголки,
И, как облако, стелется тень.
Сколько свежести в ветви тяжёлой,
Как стараются важные пчёлы,
Допотопная блещет краса!
Но вглядись в эти вспышки и блёстки:
Здесь уже побывал Кончаловский,
Трогал кисти и щурил глаза.
Тем сильней у забора с канавкой
Восхищение наше, с поправкой
На тяжёлый музейный букет,
Нависающий в жёлтой плетёнке
Над столом, и две грозди в сторонке,
И от локтя на скатерти след.
СТОГ
Б. Я. Бухштабу
На стоге сена ночью южной
Лицом ко тверди я лежал...
А. Фет
Я к стогу сена подошёл.
Он с виду ласковым казался.
Я боком встал, плечом повёл,
Так он кололся и кусался.
Он горько пахнул и дышал,
Весь колыхался и дымился.
Не знаю, как на нём лежал
Тяжёлый Фет? Не шевелился?
Ползли какие-то жучки
По рукавам и отворотам,
И запотевшие очки
Покрылись шёлковым налётом.
Я гладил пыль, ласкал труху,
Я порывался в жизнь иную,
Но бога не было вверху,
Чтоб оправдать тщету земную.
И голый ужас, без одежд,
Сдавив, лишил меня движений.
Я падал в пропасть без надежд,
Без звёзд и тайных утешений.
Ополоумев, облака
Летели, серые от страха.
Чесалась потная рука,
Блестела мокрая рубаха.
И в целом стоге под рукой,
Хоть всей спиной к нему прижаться,
Соломки не было такой,
Чтоб, ухватившись, задержаться!
* * *
Еще чего, гитара!
Засученный рукав.
Любезная отрава.
Засунь её за шкаф.
Пускай на ней играет
Григорьев по ночам,
Как это подобает
Разгульным москвичам.
А мы стиху сухому
Привержены с тобой.
И с честью по-другому
Справляемся с бедой.
Дымок от папиросы
Да ветреный канал,
Чтоб злые наши слёзы
Никто не увидал.
* * *
Жизнь чужую прожив до конца,
Умерев в девятнадцатом веке,
Смертный пот вытирая с лица,
Вижу мельницы, избы, телеги.
Биографии тем и сильны,
Что обнять позволяют за сутки
Двух любовниц, двух жён, две войны
И великую мысль в промежутке.
Пригождайся нам, опыт чужой,
Свет вечерний за полостью пыльной,
Тишина, пять-шесть строф за душой
И кусты по дороге из Вильны.
Даже беды великих людей
Дарят нас прибавлением жизни,
Звёздным небом, рысцой лошадей
И вином, при его дешевизне.
* * *
Казалось бы, две тьмы,
В начале и в конце,
Стоят, чтоб жили мы
С тенями на лице.
Но несравним густой
Мрак, свойственный гробам,
С той дружелюбной тьмой,
Предшествовавшей нам.
Я с лёгкостью смотрю
На снимок давних лет.
«Вот кресло, – говорю, –
Меня в нём только нет».
Но с ужасом гляжу
За чёрный тот предел,
Где кресло нахожу,
В котором я сидел.
* * *
Зачем Ван Гог вихреобразный
Томит меня тоской неясной?
Как жёлт его автопортрет!
Перевязав больное ухо,
В зелёной куртке, как старуха,
Зачем глядит он мне во вслед?
Зачем в кафе его полночном
Читать дальше