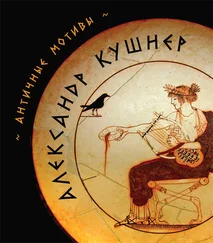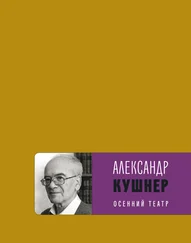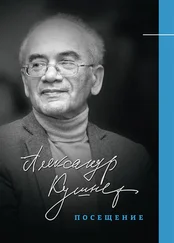Он встаёт, подавлен и взволнован,
Отложив очки, из-за стола.
Лесосклад он видит, груду брёвен
И осколки битого стекла.
К дяде Пете взгляд его прикован
Средь добра вселенского и зла.
Он читает в сердце дяди Пети,
С удивленьем смотрит на него.
Стружки с пылью поднимает ветер.
Шепчет дядя: этого… того…
Сколько бед на горьком этом свете!
Загляденье, радость, волшебство!
САХАРНИЦА
Памяти Л. Я. Гинзбург
Как вещь живёт без вас, скучает ли? Нисколько!
Среди иных людей, во времени ином,
Я видел, что она, как пушкинская Ольга,
Умершим не верна, родной забыла дом.
Иначе было б жаль её невыносимо.
На ножках четырёх подогнутых, с брюшком
Серебряным, – но нет, она и здесь ценима,
Не хочет ничего, не помнит ни о ком.
И украшает стол, и если разговоры
Не те, что были там, – попроще, победней, –
Всё так же вензеля сверкают и узоры,
И как бы ангелок припаян сбоку к ней.
Я всё-таки её взял в руки на мгновенье,
Тяжёлую, как сон. Вернул – и взгляд отвёл.
А что бы я хотел? Чтоб выдала волненье?
Заплакала? Песок просыпала на стол?
* * *
М. Петрову
Когда страна из наших рук
Большая выскользнула вдруг
И разлетелась на куски,
Рыдал державинский басок
И проходил наискосок
Шрам через пушкинский висок
И вниз, вдоль тютчевской щеки.
Я понял, что произошло:
За весь обман её и зло,
За слёзы, капавшие в суп,
За всё, что мучило и жгло…
Но был же заячий тулуп,
Тулупчик, тайное тепло!
Но то была моя страна,
То был мой дом, то был мой сон,
Возлюбленная тишина,
Глагол времён, металла звон,
Святая ночь и небосклон,
И ты, в Элизиум вагон
Летящий в злые времена,
И в огороде бузина,
И дядька в Киеве, и он!
* * *
Как нравился Хемингуэй
На фоне ленинских идей, –
Другая жизнь и берег дальний…
И спились несколько друзей
Из подражанья, что похвальней,
Чем спиться грубо, без затей.
Высокорослые (кто мал,
Тот, видимо, не подражал
Хемингуэю, – только Кафке)
С утра – в любой полуподвал,
По полстакана – для затравки –
И день дымился и сверкал!
Зато в их прозе дорогой
Был юмор, кто-нибудь другой
Напишет лучше, но скучнее.
Не соблазниться нам тоской!
О, праздник, что всегда с тобой,
Хемингуэя – Холидея…
Зато когда на свете том
Сойдётесь как-нибудь потом,
Когда все, все умрём, умрёте,
Да не останусь за бортом,
Меня, непьющего, возьмёте
В свой круг, в свой рай, в свой гастроном!
* * *
Эти травинки, которые в дом
Мы на подошвах приносим из сада,
В зеленоватом, потом золотом
Блеске их – радость для нашего взгляда.
Вымести их удаётся с трудом.
Сад наш запущен, другого – не надо!
Раньше косили, куда-то коса
Делась, быть может, забрали соседи?
Что ж, если есть на земле чудеса,
К ним приплюсуем соломинки эти.
Рай, – нам хватает его за глаза,
Кротким, попавшим в силки его, сети.
* * *
Я рай представляю себе, как подъезд к Судаку,
Когда виноградник сползает с горы на боку
И воткнуты сотни подпорок, куда ни взгляни,
Татарское кладбище напоминают они.
Лоза виноградная кажется каменной, так
Тверда, перекручена, кое-где сжата в кулак,
Распята и, крылья полураспахнув, как орёл,
Вином обернувшись, взлетает с размаха на стол.
Не жалуйся, о, не мрачней, ни о чём не грусти!
Претензии жизнь принимает от двух до пяти,
Когда, разморённая послеобеденным сном,
Она вам внимает, мерцая морским ободком.
* * *
Пить вино в таком порядке:
Рислинг кисленький и гладкий,
Херес чуть шероховат,
И портвейн, как столик, шаткий,
И мускат как бы покат.
«Чёрный доктор» за мускатом
Кажется продолговатым,
И коньяк не пропустить
С лошадиным ароматом.
А шампанским всё запить.
Ну, какой я дегустатор!
Жизнь прекрасна, так и быть.
* * *
Памяти И. Бродского
Я смотрел на поэта и думал: счастье,
Что он пишет стихи, а не правит Римом.
Потому что и то и другое властью
Называется. И под его нажимом
Мы б и года не прожили – всех бы в строфы
Заключил он железные, с анжамбманом
Жизни в сторону славы и катастрофы,
И, тиранам грозя, он и был тираном,
А уж мне б головы не сносить подавно
За лирический дар и любовь к предметам,
Безразличным успехам его державным
И согретым решительно-мягким светом.
А в стихах его власть, с ястребиным криком
И презреньем к двуногим, ревнуя к звёздам,
Читать дальше