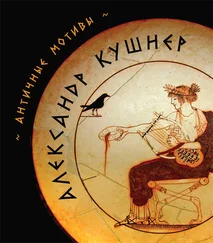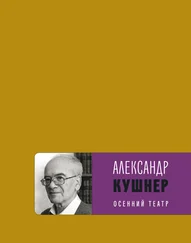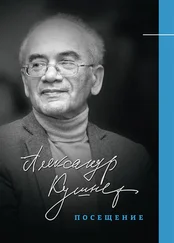О. Мандельштам
Мы останавливали с тобой
Каретоподобный кэб
И мчались по Лондону, хвост трубой,
Здравствуй, здравствуй, чужой вертеп!
И сорили такими словами, как
Оксфорд-стрит и Трафальгар-сквер,
Нашей юности, канувшей в снег и мрак,
Подавая плохой пример.
Твой английский слаб, мой французский плох.
За кого принимал шофёр
Нас? Как если бы вырицкий чертополох
На домашний ступил ковёр.
Или розовый сиверский иван-чай
Вброд лесной перешёл ручей.
Но сверх счётчика фунт я давал на чай –
И шофёр говорил: «О’кей!»
Потому, что, наверное, сорок лет
Нам внушали средь наших бед,
Что бессмертья нет, утешенья нет,
А уж Англии, точно, нет.
Но сверкнули мне волны чужих морей,
И другой разговор пошёл…
Не за то ли, что список я кораблей,
Мальчик, вслух до конца прочёл?
* * *
Лучше всего оно знаешь, когда, когда?
Знаешь, когда оно лучше всего, всего?
В послеобеденный час, когда спит орда
Отпускников, – и нет на море никого!
В самый горячий, расплавленный, сонный час,
Самый пустынный и знойный, глаза слепя.
Было бы лучше ещё, если б также нас
Не было, плещется лишь для себя, для себя.
Только себя оно принадлежит светло
Глядя на спящий, себя позабывший мир,
Столь абсолютное, словно добро и зло,
Столь драгоценное, словно брильянт, сапфир.
Словно идея платонова наяву,
Овеществлённая силой его ума…
Спросят, что делаю? Точный ответ: живу.
Яркие вспышки и пенная бахрома.
И обнаружив среди золотистых сот
Голову прочно увязшего в них пловца,
Видишь: есть кто-то всегда, кто полней живёт
И углублённей, решительно, до конца.
* * *
Нечто вроде прустовского романа,
Только на языке другом и не в прозе,
А в стихах, – вот чем я занят был, Ориана,
Албертина, Одетта, и на морозе,
А не в благословенном Комбре, Бальбеке,
Не в Париже, с сиренью его, бензином,
И хотя в том же самом железном веке,
Но железа прибавилось в нём, интимном,
Но с поправкой на общие беды, плане,
То есть после Освенцима и на фоне
Стариков, засыпанных в Магадане
Снегом, звёздами, тучами… «встали кони».
Нечто вроде прустовского романа
По количеству мыслей в одеждах ярких,
Только пил из гранёного я стакана
Чаще, чем из бокала, и та, с кем в парке
На скамье целовался, носила платье
От советской портнихи по два-три года,
И готовились загодя мероприятия
Юбилейные, громкие, в честь Нимрода,
И не поощрялся любовный шёпот,
Потому что ценился гражданский пафос,
Но я знал тогда: это опыт, опыт,
А не просто ошибка и скверный ляпсус.
ТРОЯ
Т. Венцлове
– Поверишь ли, вся Троя – с этот скверик, –
Сказал приятель, – с детский этот садик,
Поэтому когда Ахилл-истерик
Три раза обежал её, затратил
Не так уж много сил он, догоняя
Обидчика… – Я маленькую Трою
Представил, как пылится, зарастая
Кустарничком, – и я притих, не скрою.
Поверишь ли, вся Троя – с этот дворик,
Вся Троя – с эту детскую площадку…
Не знаю, что сказал бы нам историк,
Но весело мне высказать догадку
О том, что всё великое скорее
Соизмеримо с сердцем, чем громадно, –
Пи Гекторе так было, Одиссее,
И нынче точно так же, вероятно.
* * *
Нету сил у меня на листву эту мелкую,
Эту майскую, детскую, липкую, клейкую,
Умозрительно воспринимаю её,
Соблазнившись укромной садовой скамейкою,
Подозрительный и как бы сквозь забытьё.
О, бесчувственность! Сумрачная необщительность!
Мне мерещится в радости обременительность
И насильственность: я не просил зеленеть,
Расцветать, так сказать, заслоняя действительность,
Утешать, расставлять для меня эту сеть!
Это склочный старик с бородой клочковатою
Пел любую весну, даже семидесятую,
Упивался, как первой весной на земле,
Не считаясь в душе ни с какою затратою
И сочувствуя каждой пролётной пчеле.
Даже как-то обидно, что стерпится – слюбится:
Оплетёт, обовьёт, обезволит причудница
И ещё подрастёт – и поверю опять,
Не смешно ли? что всё состоится и сбудется,
Что? не знаю, и в точности трудно сказать.
* * *
Он поймал себя, пылкий, на том ощущенье,
Обнимая её, что опять – в лабиринте,
Правда, в этот раз – в маленьком, и восхищенье
Испытал: с этим делом у них тут на Крите
Хорошо, как нигде. И, смутясь, свою рыбку
Прижимал, словно птичку, к себе что есть силы.
В полумраке она разглядела улыбку
Читать дальше