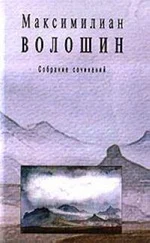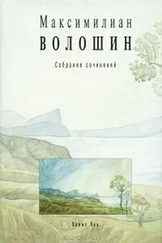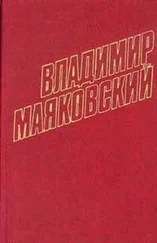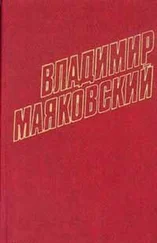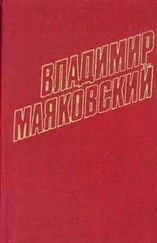А здесь, в колеблющемся зное,
В курящейся над лугом мгле,
Ангары, люди, всё земное —
Как бы придавлено к земле…
Но снова в золотом тумане
Как будто — неземной аккорд…
Он близок, миг рукоплесканий
И жалкий мировой рекорд!
Всё ниже спуск винтообразный,
Всё круче лопастей извив,
И вдруг… нелепый, безобразный
В однообразьи перерыв…
И зверь с умолкшими винтами
Повис пугающим углом…
Ищи отцветшими глазами
Опоры в воздухе… пустом!
Уж поздно: на траве равнины
Крыла измятая дуга…
В сплетеньи проволок машины
Рука — мертвее рычага…
Зачем ты в небе был, отважный,
В свой первый и последний раз?
Чтоб львице светской и продажной
Поднять к тебе фиалки глаз?
Или восторг самозабвенья
Губительный изведал ты,
Безумно возалкал паденья
И сам остановил винты?
Иль отравил твой мозг несчастный
Грядущих войн ужасный вид:
Ночной летун, во мгле ненастной
Земле несущий динамит?
1910 — январь 1912
«Повеселясь на буйном пире…»
Повеселясь на буйном пире,
Вернулся поздно я домой;
Ночь тихо бродит по квартире,
Храня уютный угол мой.
Слились все лица, все обиды
В одно лицо, в одно пятно;
И ветр ночной поет в окно
Напевы сонной панихиды…
Лишь соблазнитель мой не спит;
Он льстиво шепчет: «Вот твой скит.
Забудь о временном, о пошлом
И в песнях свято лги о прошлом».
6 января 1912
1
Как тяжко мертвецу среди людей
Живым и страстным притворяться!
Но надо, надо в общество втираться,
Скрывая для карьеры лязг костей…
Живые спят. Мертвец встает из гроба,
И в банк идет, и в суд идет, в сенат…
Чем ночь белее, тем чернее злоба,
И перья торжествующе скрипят.
Мертвец весь день труди́тся над докладом.
Присутствие кончается. И вот —
Нашептывает он, виляя задом,
Сенатору скабрезный анекдот…
Уж вечер. Мелкий дождь зашлепал грязью
Прохожих, и дома, и прочий вздор…
А мертвеца — к другому безобразью
Скрежещущий несет таксомотор.
В зал многолюдный и многоколонный
Спешит мертвец. На нем — изящный фрак.
Его дарят улыбкой благосклонной
Хозяйка — дура и супруг — дурак.
Он изнемог от дня чиновной скуки,
Но лязг костей музы́кой заглушон…
Он крепко жмет приятельские руки —
Живым, живым казаться должен он!
Лишь у колонны встретится очами
С подругою — она, как он, мертва.
За их условно-светскими речами
Ты слышишь настоящие слова:
«Усталый друг, мне странно в этом зале». —
«Усталый друг, могила холодна». —
«Уж полночь». — «Да, но вы не приглашали
На вальс NN. Она в вас влюблена…»
А там — NN уж ищет взором страстным
Его, его — с волнением в крови…
В ее лице, девически прекрасном,
Бессмысленный восторг живой любви…
Он шепчет ей незначащие речи,
Пленительные для живых слова,
И смотрит он, как розовеют плечи,
Как на плечо склонилась голова…
И острый яд привычно-светской злости
С нездешней злостью расточает он…
«Как он умен! Как он в меня влюблен!»
В ее ушах — нездешний, странный звон:
То кости лязгают о кости.
19 февраля 1912
2
Ночь, улица, фонарь, аптека,
Бессмысленный и тусклый свет.
Живи еще хоть четверть века —
Всё будет так. Исхода нет.
Умрешь — начнешь опять сначала
И повторится всё, как встарь:
Ночь, ледяная рябь канала,
Аптека, улица, фонарь.
10 октября 1912
3
Пустая улица. Один огонь в окне.
Еврей-аптекарь охает во сне.
А перед шкапом с надписью Venena [2] Яд (лат.). — Ред.
,
Хозяйственно согнув скрипучие колена,
Скелет, до глаз закутанный плащом,
Чего-то ищет, скалясь черным ртом…
Нашел… Но ненароком чем-то звякнул,
И череп повернул… Аптекарь крякнул,
Привстал — и на другой свалился бок…
А гость меж тем — заветный пузырек
Сует из-под плаща двум женщинам безносым
На улице, под фонарем белёсым.
Октябрь 1912
4
Старый, старый сон. Из мрака
Фонари бегут — куда?
Там — лишь черная вода,
Там — забвенье навсегда.
Читать дальше