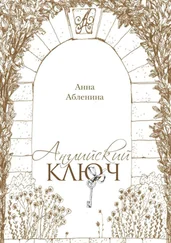1932
Душа, ты выросла из юбки,
она тебе уж до колен.
Я вижу, шерстяной голубке
наскучил пыльный гобелен,
где вол любуется купавой,
а рядом — павой дровосек.
Взмахнула дева ручкой правой,
ствола он так и не отсек.
По снегу с мышью ходит кошка
и всё никак ее не съест.
И тут же розы вдоль окошка,
на вышке — с голубем насест.
Сметану дочь несет соседу, —
на гобелене все добры!
И льется шерсть вина к обеду
из доброй кружки той поры.
Расшитый пахарь за волами
стоит. Ни с места те волы.
Ах, голубь мой, взмахни крылами
и унесись из кабалы!
1936
Марине Цветаевой
След истлевших древесных сил —
карандаш мой точу в ночи.
Нож с боков стеарин скосил
деревянной моей свечи.
Жизнь сказала: да будет так! —
заострила графитный взор.
Ты спустилась ко мне в кулак,
стружка, с окаменелых гор.
Передашь ли тех волн аккорд,
мох и эхо свинцовых скал,
лес, лазоревый злой фиорд,
ветр, что парусом челн таскал?
Чудо — горенья плод во мгле,
претворенные в пласт суки…
Бескорыстнейший на земле
друг, не оставь моей руки!
1934
Пустынный ветер схватывает прах
и мчит его до крайнего предела.
Коль сон однажды душу схватит — ах,
она всю жизнь скитается без дела.
Днем снится наша явь самой себе,
ночами тень волнуется и бродит.
Две силы те в глухой всегда борьбе,
и всё же тень к телам всегда подходит.
И липнут капли крови к бахромам
мечты. Извечно кровь смущала тени.
И белый день не выдал права нам
платить на деле златом сновидений.
А сон в ответ, как смертник, бьет в тюрьму,
как колокол подводный, к нам стучится.
К нему бредем, к нему бредем, к нему.
Но, может быть, и он нам только снится?
1935
Мгла, ливень листья. Лаковые крыши.
О, где же для деревни дождевик?
В мансардах только мыши письма пишут,
а души спят, зарывшись в пуховик.
И день как ночь (лишь сны мои в расходе) —
в трясине день, в высоких сапогах.
Вновь толстый сумрак тихо в дом заходит,
как рыбный страж с резиной на ногах.
А яблоня как мать стоит живая.
Ее ключицы клонит бремя дней.
Пускай подаст рука ее кривая
тому, кто всех в селенье голодней.
Как башня, жадный пес про полдень знает.
Бредет сума с порога на порог.
Почтарь страду вторую начинает,
и месяц кажет золоченый рог.
Качаются почтовые подводы,
над войлочной дорогой льют дожди.
Стоят лишь в городах громоотводы.
Ах, муза, непогоду пережди.
Селеньям в осень впору умереть.
Слетают листья желтыми слезами.
Две колеи уходят за возами.
Но нашим листьям некуда лететь!
1933
«Птицей слово наше бьется…»
Птицей слово наше бьется.
Как дела его худы!
Из туземного колодца
не глотнуть ему воды.
Только в чаще ежевика
безмятежно хороша.
Над болотом птицы дикой
разрывается душа.
Вот упала в травы птица
(стал навеки вечер тих).
Ей свое, быть может, снится,
как сироткам мама их?
Так слабеют средь плантаций,
так в колонии грустят,
вспоминают тень акаций
так — что косточки хрустят!
1936
Душенька, моя душа, ты
не балована балами.
Видишь черные ушаты,
воду с пенными крылами.
Как гадалка в темень гущи,
ты глядишь в пузырь из мыла.
Зрит кукушка день грядущий,
постирушка — то, что было.
Ах, в перстах не пена стирки —
пена волн и стан сирены,
пaяца в пустынном цирке
белый пляс вокруг арены.
Золушка, в твой локоть детский,
не балованный балами,
сунул сказочный дворецкий
птицу с мыльными крылами.
Твой ли волос между строчек —
горя белого примета?
Слышишь голос среди ночи?
Ночь читает книгу света.
1934
Александру Гингеру
Ярок желтый блик червонца,
отражая солнца лик.
Воска частые оконца
мед дают тебе, старик.
Голодает населенье —
луч надежды в зеленях.
Зелень — ветвь увеселенья,
к ней и гуси семенят.
Читать дальше