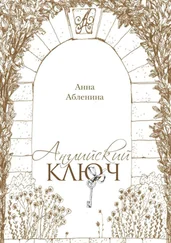Шесть дней оно скрывалось в сундуке,
проложенное прелостью и перцем.
В седьмой — оно к десной твоей руке
ласкается, старается, как сердце,
как лавочник, что дарит нам вершок,
как склянка, что песочною зовется,
как сваха, как сиреневый горшок,
где счастье лепестками нам дается.
1930
Зеленый дворик. Курицы в навозе
и золотой веселый сеновал.
Зачем так быстро время воду возит
и мой струистый полдень миновал?
У бабушки висели в день осенний
лекарственные травы с потолка
и скопища на коконе кисейном
уснувшего мушиного полка.
Как любо было бегать вороненком
в расквашенные клети за яйцом,
как утром распевало горло звонко,
выскакивая к солнцу на крыльцо!
Но сладок был при свечках летний ужин,
и юбочек взлетало полотно,
когда босые пятки били в лужи
и дождь ломился радугой в окно,
в речонку или в толщу огорода,
где маялись малинные кусты,
где, праздника встречая день дородный,
линяли наши ягодные рты.
О свежие сверкающие гумна,
пронизанные ржаньем жеребят,
о славные вожди ватаги шумной
играющих в разбойники ребят.
О нянюшкин сундук, где всё наследство
оберегал малеванный улан.
О милое холстинковое детство,
румяное отнюдь не от румян!
1924
«Молочных чувств дано нам только пять…»
Молочных чувств дано нам только пять.
Но с каждым годом шире древесина.
Затронет пух растительную прядь,
и задрожит в безветрии осина.
Дрожит желток. В хрупчайшей скорлупе
всей нашей жизни нежное начало.
Пусть воду или воздух я в ступе
порой толкла, всё ж дно мое стучало.
Прости меня, что на твое лицо
кладу, о муза, столь цветного глянца.
Но ежегодно белое яйцо
пылает от пасхального румянца.
Средь гиацинтов, смертников весны,
кривляются от солнышка стаканы.
И, как они, твои дневные сны
невыносимым светом осияны.
1933
«Душа, в небесном тюле на канате…»
Душа, в небесном тюле на канате
давно ты пляшешь в тесных башмачках.
Ах, не пришлось бы деве на закате
в конце смотрин остаться в дурачках!
Среди ларьков, гостинцы покупая,
они бредут, не давши ни гроша,
о, за твое, голубка голубая,
почти что неземное антраша!
Но леденеет шнур. Зима обманет,
и упадешь ты елкой в декабре.
Гулянье только мимоходом глянет
на кости, рухнувшие в мишуре.
«Тает в небе стая голубей…»
Тает в небе стая голубей:
вот от них уже остались точки.
Не могу я вспомнить, хоть убей,
день, когда ко мне явились строчки.
Кажется, всю жизнь они со мной.
(Так совместно с тенью ходят люди.)
Так подносит повар крепостной
голову судьбы своей на блюде.
Вся в локонах из чистого червонца,
в мантильи, с белым зонтиком в руках
(слепящее Вас окружает солнце),
Вы каждым шагом радуете прах.
Привыкли, Муза, яблочные кони
по облачным дорогам Вас возить.
И яблони пред Вами ветви клонят
такие, что нельзя вообразить.
Одна из них от тяжести кривая,
свеч восковых плоды ее бледней.
Стоит она как будто неживая…
И что же? Вы как раз идете к ней.
Томительно, как вдохновенье слову,
для яблока касанье Ваших уст.
Вонзая зубы в колобок плодовый,
Вы слышите его покорный хруст.
Пусть яблоко (вина столпотворенья)
смешение железа и воды —
но райские останутся следы
на мякоти того стихотворенья.
1932
«Не ощущая собственного груза…»
Не ощущая собственного груза,
сон ходит в семиверстном сапоге.
А день, неотвратимая обуза,
как аист, на одной стоит ноге.
Стары в господском доме половицы,
лежат они рядком, но между — щель.
Не зря густым нектаром медуницы
питаются: у них благая цель.
Порой сухой удар на блюде плоском
расщелину дает. Хозяин зол.
Но ставит праздник мед на стол, и воском
рассохшийся натерт до лоска пол.
Тогда тяжелый воздух вдохновенья
рассеивается. Идет азот.
Войдет ли к пчелам час отдохновенья
в шестиугольные ячейки сот?
Ах, нелегко домину бытия
построить на лесах стихотворений.
И полное лишь в сказке, знаю я,
ждет замарашку удовлетворенье.
Читать дальше