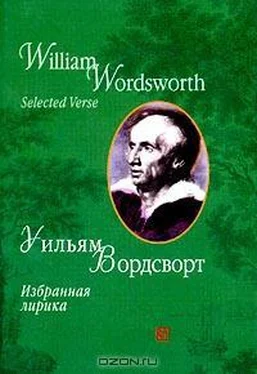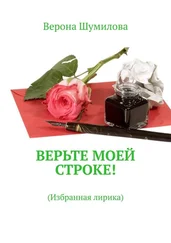О, что за грусть! Вообрази,
Как помутненный ум томится.
Когда под сердцем все сильней
Младенец шевелится!
Седой Джером под Рождество
Нас удивил таким рассказом:
Что, в матери набравшись сил,
Младенец чудо сотворил,
И к ней вернулся разум,
И очи глянули светло;
А там и время подошло.
Что было дальше — знает Бог,
А из людей никто не знает;
В селенье нашем до сих пор
Толкуют и гадают,
Что было — или быть могло:
Родился ли ребенок бедный,
И коль родился, то каким,
Лишенным жизни иль живым,
И как исчез бесследно.
Но только с тех осенних дней
Уходит в горы Марта Рэй.
Еще я слышал, что зимой
При вьюге, любопытства ради,
В ночи стекались смельчаки
К кладбищенской ограде:
Туда по ветру с горных круч
Слетали горькие рыданья,
А может, это из гробов
Рвались наружу мертвецов
Невнятные стенанья.
Но вряд ли был полночный стон
К несчастной Марте обращен.
Одно известно: каждый день
Наверх бредет она упорно
И там в пылающем плаще
Тоскует возле Терна.
Когда я прибыл в этот край
И ничего не знал, то вскоре
С моей подзорною трубой
Я поспешил крутой тропой
Взглянуть с горы на море.
Но смерклось так, что я не мог
Увидеть собственных сапог.
Пополз туман, полился дождь,
Мне не было пути обратно,
Тем более что ветер вдруг
Окреп десятикратно.
Я озирался, я спешил
Найти убежище от шквала,
И, что-то смутно увидав,
Я бросился туда стремглав,
И предо мной предстала —
Нет, не расселина в скале,
Но Женщина в пустынной мгле.
Я онемел — я прочитал
Такую боль в погасшем взоре,
Что прочь бежал, а вслед неслось:
"О, горе мне! О, горе!"
Мне объясняли, что в горах
Она сидит безгласной тенью,
Но лишь луна взойдет в зенит
И воды озерка взрябит
Ночное дуновенье,
Как раздается в вышине:
"О, горе, горе, горе мне!"
— И ты не знаешь до сих пор,
Как связаны с ее судьбою
И Терн, и холм, и мутный пруд,
И веянье ночное?
— Не знаю; люди говорят,
Что мать младенца удавила,
Повесив на кривом сучке;
И говорят, что в озерке
Под полночь утопила.
Но все сойдутся на одном:
Дитя лежит под ярким мхом.
Еще я слышал, будто холм
От крови пролитой багрится —
Но так с ребенком обойтись
Навряд ли мать решится.
И будто — если постоять
Над той ложбинкою нагорной,
На дне дитя увидишь ты,
И различишь его черты,
И встретишь взгляд упорный:
Какой бы в небе ни был час,
Дитя с тебя не сводит глаз.
А кто-то гневом воспылал
И стал взывать о правосудье;
И вот с лопатами в руках
К холму явились люди.
Но тот же миг перед толпой
Цветные мхи зашевелились,
И на полета шагов вокруг
Трава затрепетала вдруг,
И люди отступились.
Но все уверены в одном:
Дитя зарыто под холмом.
Не знаю, так оно иль нет;
Но только Терн по произволу
Тяжелых мрачных гроздьев мха
Все время гнется долу;
И сам я слышал с горных круч
Несчастной Марты причитанья;
И днем, и в тишине ночной
Под ясной блещущей луной
Проносятся рыданья:
"О, горе мне! О, горе мне!
О, горе, горе, горе мне!"
In distant countries have I been,
And yet I have not often seen
A healthy man, a man full grown,
Weep in the public roads, alone.
But such a one, on English ground,
And in the broad highway, I met;
Along the broad highway he came,
His cheeks with tears were wet:
Sturdy he seemed, though he was sad;
And in his arms a Lamb he had.
He saw me, and he turned aside,
As if he wished himself to hide:
And with his coat did then essay
To wipe those briny tears away.
I followed him, and said, "My friend,
What ails you? wherefore weep you so?"
— "Shame on me, Sir! this lusty Lamb,
He makes my tears to flow.
To-day I fetched him from the rock;
He is the last of all my flock.
"When I was young, a single man,
And after youthful follies ran,
Though little given to care and thought,
Yet, so it was, an ewe I bought;
And other sheep from her I raised,
As healthy sheep as you might see;
And then I married, and was rich
As I could wish to be;
Of sheep I numbered a full score,
And every year increased my store.
"Year after year my stock it grew;
And from this one, this single ewe,
Full fifty comely sheep I raised,
As fine a flock as ever grazed!
Upon the Quantock hills they fed;
They throve, and we at home did thrive:
— This lusty Lamb of all my store
Is all that is alive;
And now I care not if we die,
And perish all of poverty.
"Six Children, Sir! had I to feed:
Hard labour in a time of need!
My pride was tamed, and in our grief
I of the Parish asked relief.
They said, I was a wealthy man;
My sheep upon the uplands fed,
And it was fit that thence I took
Whereof to buy us bread.
'Do this: how can we give to you,'
They cried, 'what to the poor is due?'
Читать дальше