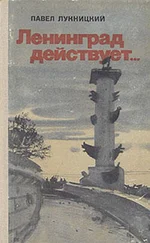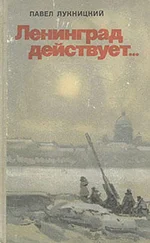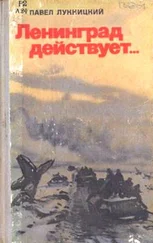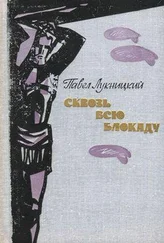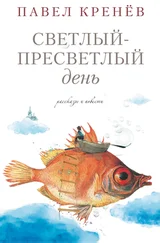19
Тысяча девятьсот тридцать второй год.
Пограничники год назад пришли на памирскую государственную границу и накрепко закрыли ее. Кончилось басмачество. Пути на Памир стали безопасными, мирными и спокойными. От Оша до Хорога прошли первые автомобили... Началось строительство восточно-памирской автодороги. На Пяндже, на Гунте, на Шах-Даре появились первые колхозы, открывалось все больше школ.
Памир переставал быть таинственной заповедной страной. Легенды уступали место строгим расчетам и точным цифрам. Началась всеобъемлющая, будничная, плановая работа по превращению Памира в область во всех отношениях и в подлинном смысле слова советскую. Героический период маленьких, уходивших как на иную планету экспедиций закончился. Романтика медленных, дальних странствий сменялась повсеместным торопливым движением, календарными неумолимыми сроками. На Памир вступили десятки научных отрядов огромной Таджикской комплексной экспедиции, в которой было триста научных работников, а всего--больше тысячи участников.
Эту экспедицию прекрасно организовал и умело ею руководил Николай Петрович Горбунов,--в прошлом, при В. И. Ленине, управляющий делами Совнаркома РСФСР, а с конца двадцатых годов энергичный исследователь Памира, замечательный ученый, впоследствии академик, непременный секретарь Академии наук СССР.
Романтическими становились сами дела, их широки масштабы, их огромное научное и социально-экономическое значение, их необъятная перспективность...
Восторженный стиль моих рассказов о Памире, записей в моих путевых дневниках сменялся строгими, сжатыми докладами, сообщениями, короткими распоряжениями и сухими, деловыми заметками.
По приглашению Н. П. Горбунова я стал ученым секретарем всей экспедиции, начальником "центральной объединенной колонны ТКЭ", двигавшейся на Памир в огромном составе, е большим караваном. Как никогда прежде, я научился ценить время. И в лунные ночи в палатке, поставленной у бурлящего ручья, под льдистыми гребнями гор, я размышлял уже не о космосе и не о драконах, а о том, как согласовать работу ботаников с работою гидроэнергетиков, работу геохимиков--с работою гляциологов и о том, где взять сегодня фураж для множества лошадей каравана, о том, как переправить вьючную радиостанцию за этот перевал, и еще о том, как наладить работу шлиховой лаборатории под обрывом, где ей угрожают обвалы.
Лазурит стал только одной из нескольких сотен "точек", которые семидесяти двум отрядам экспедиции надо было посетить, осмотреть, обследовать, изучить... Синий памирский камень никто теперь уже не называл памирским неведомым словом "ляджуар". Ему были прочно присвоены строго научные, принятые во всех учебниках минералогии и петрографии названия: ляпис-лазурь и лазурит. Второе было короче и проще, а потому и утвердилось во всех последующих научных трудах.
Среди открытых экспедицией различных крупных месторождений лазурит теперь был подобен маленькой синей звездочке в небе, сверкающем звездами первой ее личины. Но и эта крошечная звездочка не была забыта. Для полного изучения ее в составе экспедиции был сформирован маленький "лазуритовый отряд". Но в том, 1932 году лазуриту не повезло. Сотни прекрасных, добросовестных научных специалистов ехали на Памир. Но бывают же несчастливые исключения: начальником лазуритового отряда был человек, оказавшийся позже проходимцем и не имевшим даже геологического образования. Я не стесняюсь назвать жуликом этого недостойного человека. Любезнейший и скользкий в отношениях, этот юркий черномазый человек разговаривал о науке так, словно она его осеняла свыше, и при этом, вероятно, думал, что взять синий памирский камень так же легко, как бриллиант из витрины музея, -стоит только, настороженно обернувшись, выдавить стекло витрины и быстро протянуть руку. Позже выяснилось, что, получая образцы внизу, в долинном экспедиционном лагере, он вообще не побывал на месторождении, испугавшись ли трудностей или занявшись другими, корыстными делами. По окончании экспедиции, спасаясь от ответственности, он оказался в бегах. Это еще раз говорит о том, как важно выбирать в состав экспедиции только людей выверенных, всесторонне испытанных, опытных и главное--бескорыстных, чуждых авантюризму.
К месторождению лазурита отправилось несколько других серьезных и опытных участников экспедиции по пути, который теперь уже можно было считать торным.
Побывал на месторождении и известный, авторитетный геолог В. А. Николаев. В своей отчетной статье "Петрология Памира" он сделал печальное заключение:
Читать дальше