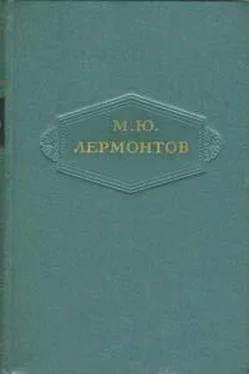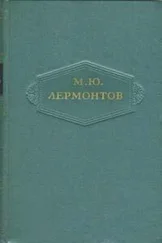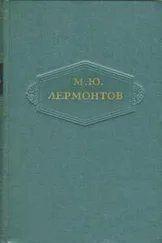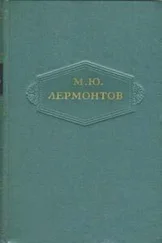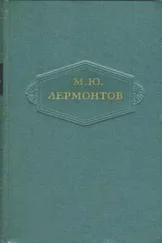«Плачь! плачь! Израиля народ…» * «Плачь! плачь! Израиля народ» (стр. 152, 345) Печатается по автографу — ИРЛИ, оп. 1, № 8 (тетрадь VIII), л. 10 об. Впервые опубликовано в Соч. под ред. Ефремова (т. 2. 1880, стр. 176) как первоначальный набросок «Еврейской мелодии» для драмы «Испанцы». Датируется августом 1830 года по положению в тетради VIII.
Плачь! плачь! Израиля народ,
Ты потерял звезду свою;
Она вторично не взойдет—
И будет мрак в земном краю;
По крайней мере есть один,
Который всё с ней потерял;
Без дум, без чувств среди долин
Он тень следов ее искал!..
30 июля — (Париж.) 1830 года * 30 июля. — (Париж) 1830 года (стр. 153, 345) Печатается по автографу — ИРЛИ, оп. 1, № 8 (тетрадь VIII), лл. 10 об. — 11. Имеется копия, озаглавленная ошибочно «30 июня 1830-го года» — ИРЛИ, оп. 1, № 21 (тетрадь XX), лл. 3 об.—4. Впервые опубликовано с некоторыми искажениями и пропуском стиха 7 в «Русск. мысли» (1883, № 4, стр. 54). Датируется августом 1830 года. Стихотворение было написано под впечатлением событий Июльской революции во Франции: поэт приветствует народное восстание. В результате восстания 28–30 июля французский король Карл Х отрекся от престола и затем бежал в Англию. Известия о революции во Франции дошли в Москву в первых числах августа; в Середникове, где Лермонтов был до 12 августа, сведения могли быть получены несколько позже.
Ты мог быть лучшим королем,
Ты не хотел. — Ты полагал
Народ унизить под ярмом.
Но ты французов не узнал!
Есть суд земной и для царей.
Провозгласил он твой конец;
С дрожащей головы твоей
Ты в бегстве уронил венец.
И загорелся страшный бой,
И знамя вольности как дух
Идет пред гордою толпой.
И звук один наполнил слух;
И брызнула в Париже кровь.
О! чем заплотишь ты, тиран,
За эту праведную кровь,
За кровь людей, за кровь граждан.
Когда последняя труба
Разрежет звуком синий свод;
Когда откроются гроба,
И прах свой прежний вид возьмет;
Когда появятся весы,
И их подымет судия…
Не встанут у тебя власы?
Не задрожит рука твоя?…
Глупец! что будешь ты в тот день,
Коль ныне стыд уж над тобой?
Предмет насмешек ада, тень,
Призрак, обманутый судьбой!
Бессмертной раною убит,
Ты обернешь молящий взгляд,
И строй кровавый закричит:
Он виноват! он виноват!
Стансы («Взгляни, как мой спокоен взор…») * Стансы («Взгляни, как мой спокоен взор», стр. 155, 346) Печатается по автографу — ИРЛИ, оп. 1, № 8 (тетрадь VIII), л. 12. В автографе под заглавием пометы рукой Лермонтова в скобках: «1830 года», «26 августа». Впервые опубликовано в «Библ. для чтения» (1844, т. 64, № 5, отд. I, стр. 7–8) с некоторыми разночтениями и под заглавием «Станс». В издании «Записок» Сушковой 1870 года в текст внесен ряд изменений. Датируется 26 августа 1830 года на основании пометы в рукописи. В автографе рядом с текстом нарисован пером портрет девушки в профиль, по всей вероятности Е. Сушковой, к которой и может относиться стихотворение.
I
Взгляни, как мой спокоен взор,
Хотя звезда судьбы моей
Померкнула с давнишних пор
И с нею думы светлых дней.
Слеза, которая не раз
Рвалась блеснуть перед тобой,
Уж не придет, как этот час,
На смех подосланный судьбой.
II
Смеялась надо мною ты,
И я презреньем отвечал —
С тех пор сердечной пустоты
Я уж ничем не заменял.
Ничто не сблизит больше нас,
Ничто мне не отдаст покой…
Хоть в сердце шепчет чудный глас:
Я не могу любить другой.
III
Я жертвовал другим страстям,
Но, если первые мечты
Служить не могут снова нам —
То чем же их заменишь ты?…
Чем успокоишь жизнь мою,
Когда уж обратила в прах
Мои надежды в сем краю,
А может быть и в небесах?…
Чума * Чума (стр. 157, 347) Печатается по автографу — ИРЛИ, оп. 1, № 8 (тетрадь VIII), лл. 12 об. — 13 об. Копия (с ошибками) — там же, оп. 1, № 21 (тетрадь XX), л. 4–4 об. Впервые опубликовано с рядом неточностей в «Русск. мысли» (1883, № 4, стр. 77–78). В автографе, после первого стиха — дата в скобках, приписанная Лермонтовым позже: «1830. Августа». Стихотворение не закончено. Оно было написано во время эпидемии холеры, слухи о которой стали в августе доходить до Москвы. Не исключена возможность, что стихотворение написано в первых числах сентября, когда холера появилась в самой Москве. Позже, датируя стихотворение по памяти, Лермонтов легко мог допустить ошибку; отсутствие числа в дате доказывает, что поэт не помнил точно момент создания произведения.
Читать дальше