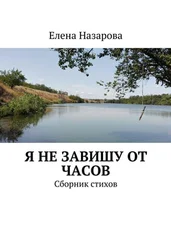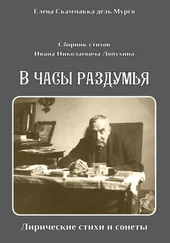Вот ты в поту работы, но что ж
все узнаваемей твой чертеж
и прорастают новых взамен
контуры прежних стен?
Вновь собезьянничал? Сам виноват.
Может, не стоило рушить уклад.
Может, честнее с азов начать,
чем интересничать.
На пепелище родного стиха
то ли стружка, то ли труха.
Жуткие души сгоревших вещей.
Ничего вообще.
Виноградные стихи
Ты — стоящая в горле сладкая кость,
и ни выплюнуть, ни сглотнуть,
ты — идущая горлом красная гроздь
на давильне, сдавившей грудь,
знать, пора винограду в горла точил,
чтоб веселую кровь точил
из-под пяточек песни, сбившейся с ног
(по коленца в его крови),
только пятки сверкают: ну-ка, лови
нас, бегущих туда, где сок! —
бездорожьем багряно-родным, родным,
по бугристому дну грозы,
в ту долину, что выпьет махом одним
свет, придавленный тьмой лозы
так, что воздух нальется соком огня,
даже тени тень оттеня,
и в огне расслоятся, будто слюда,
зренья всхолмленные следы,
и по каждому слою каждой гряды
дрожь дословно сойдет сюда,
та до-словно прямая, точная дрожь,
проходящая напрямик
сквозь листву голубую — каменный нож,
черенку подносящий крик;
отверзающей точкой, черным нулем
окликающий весь объем
дождевой полусферы — тьмами дождя,
чтобы каждый камень и лист
был в округе стемневшей найден и чист,
«лист» и «камень» в себе найдя,
а потом потеряв их… — ветер, свищи
самого себя на ветру
в поле, чистом до боли, в поле ищи
вопля, во´ поле, слов — во рту,
что бросает на ветер эти слова,
догоняющие едва
тех, кто во´ поле по´лет свой ветроград
копьецами-крыльями, кто
превращает свой воздух сплошь в решето,
сквозь которое вверх глядят
в синеватые грозды жадные рты
пересохших перстных нулей,
потерявших по капле вкус высоты
и кричащих кому-то: «Лей!»
* * *
Нет, наверное, рай — это все-таки город, не сад.
Что нам делать в саду, где унылые сливы висят?
На посмертный гамак променять эту улицу? Нет уж!
Я в кафе на углу буду вечность свою коротать,
пригубив капучино, я с шелестом нежным листать
буду нашу земную — смешную словесную ветошь.
Если можно все книги с собой невозбранно в багаж
запихнуть, отбывая в последний и главный вояж,
если можно однажды обнять собеседников милых,
если с ними вдоль этих домов бесконечно идти,
в сувенирные лавки вторгаясь гурьбой по пути,
я поверю, что смерть — это только трава на могилах.
* * *
Святой Себастьян со стрелой в животе,
Лаврентий с решеткой железной,
Андрей на кресте и безвестные те,
висящие в рамах над бездной…
Зачем эта нежная зелень плаща,
румянца внезапная алость?
Чтоб истый эстет понимал, трепеща:
для этого все затевалось.
Для этого крови и лимфы возня
уняться не может доныне.
Народу-то сколько! Орет солдатня,
кого-то казнят на картине.
А там собеседуют ангелы, им
как будто и вовсе нет дела
до этих разборок. И Бог, нелюдим,
ступает меж нами несмело.
* * *
С гвоздем возился Иоанн,
скользили клещи.
Зрачки и пятна рваных ран
чернели резче.
Озноб, сомнения, туман.
Простые вещи.
— Ну что ты мешкаешь? Быстрей!
— Веревки туги.
То ль мытарь, то ли брадобрей
взопрел с натуги.
Другой — то ль грек, то ль иудей
дрожит в испуге.
Тот недоверчив, этот глуп,
а этот робок.
Уставясь на тяжелый труп,
стоят бок о бок.
Слова застыли между губ,
как между скобок.
Он шел, невозмутимо тих
под сводом млечным.
Он звал не избранных — любых,
Он первым встречным
шептал, смущая души их,
о Царстве вечном.
Он понимал, смотря в тоске
на эти лица:
учителю в ученике
не претвориться…
Всходило солнце. Вдалеке
запела птица.
Саркофаг римлянина
А удивился б он, когда однажды,
как ночью по нужде или от жажды
с постели встал, покинул ящик свой,
облекшись плотью, словно простыней!
«Рим кончился», — сказал бы он, глазея
на каменные соты Колизея,
где варвары роятся и жужжат,
в пыли огрызки мрамора лежат.
Читать дальше