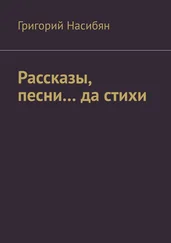В предчувствии начала и конца —
Светлее тень спокойного лица,
Уверенней разжатая рука,
Добрее уходящая строка.
Иду на дно и не иду ко дну…
Так две реки сливаются в одну.
Чтоб, растворившись в море навсегда,
Плыла освобождённая вода.
Когда война приходит в города,
они темней становятся и тише.
А он казался мне
светлей и выше,
значительней и строже, чем всегда.
Он был почти что рядом,
где-то тут
за сопкой,
за спиною,
за плечами.
Бомбят его, —
и мы не спим ночами.
так боя ждем, как только боя ждут.
Шел сотый день,
сто первый,
сто второй.
Под нами с ревом оседали горы.
Но только почта покидала город,
и только мертвый смел покинуть строй.
Он весь пылал,
и с четырех сторон
от бухты к бухте подползало пламя.
А нам казалось, это было с нами,
как будто мы горели, а не он.
А он горел,
и отступала мгла
от Херсонеса и до равелина.
И тень его пожаров над Берлином
уже тогда пророчеством легла. [5] Другое название: Декабрь 1941 года
Чтоб увидеть одинокий холм
с красною суровою звездою,
долго шел я северной водою
на далекий остров Борнхольм.
Господи! И здесь они лежат.
Дома им погостов было мало.
Снега им в России не хватало.
И они в чужой земле лежат.
Что ж, теперь иного не дано:
ни любви, ни радости не знавшим,
в День Победы в этих травах павшим,
здесь лежать навеки суждено.
Ранним горьким криком журавля,
навсегда ушедших поминая,
пусть над ними дрогнет небо мая,
пусть, как дома, пухом им земля.
Военных давних лет игра:
перед друзьями повторяться,
все время храбрым притворяться
и ждать,
придут ли катера,
пройдет ли мимо часовой,
возьмет ли ложный след овчарка,
пыль инкерманскую отхаркав,
лечь камнем
или встать травой.
Так день за днем,
без перемен.
Набросив темноту на плечи,
смотри,
считай,
ищи ли встречи.
Все, что угодно!..
Но не плен.
У нас на это права нет.
Не обсуждая приказанье,
наш потолок —
одно касанье.
«Туда-сюда» —
закон кассет.
Уходит след,
плетется нить.
Одним и тем же делом занят.
Пока разведчика не ранят,
нам воздух в легких
не сменить.
А оставалось нас
так мало!
И так далек был
путь домой!
А жить хотелось,
Боже мой!..
Тогда еще жила ты,
мама.
Когда Инкерманские каменоломни
дымились
и море, как небо,
а небо, как море
горело;
когда от снарядов и бомб
облысели высоты
и воду в полки
даже ночью
с трудом доставляли, —
мы пили компот,
нам давали в пайке
папиросы;
мы в баню ходили
и спали всю ночь
на матрацах.
И мне было стыдно
не жить —
притворяться спокойным;
и было мне страшно
не спать,
а в тепле просыпаться.
И было мне душно,
и жарко, и тесно —
с компотом
ждать, ждать
это слово желанное, жесткое:
«Нынче!»
И первая группа —
минеры с радистом Володей,
почтовые голуби,
голуби — наши связные,
и сам капитан-лейтенант
вышли ночью на шлюпках.
А немцы их ждали.
Но кто виноват —
я не знаю.
Я ранен был.
Я был убит под Одессой.
(Из горьких известий,
печалей,
обид
и наветов
я мог бы построить корабль,
чтоб он утонул в океане.)
Но не было горше
семи человеческих криков:
«Сюда не высаживаться,
мы все убиты,
Володя!..»
И голуби тоже —
они-то причем? —
не вернулись.
Они расплатились
крылатые
просто за верность.
Так что ж они, глупые,
снова зимой улетели
погреться в Испанию
или в Трансвааль.
Оставались бы
дома,
со мною…
1976
Когда узлом завяжется беда
и ночи дням свои предъявят счеты,
отвергнув черепашьи поезда.
Я снова предпочту им самолеты.
И мягко ляжет под крыло апрель.
И властно вспыхнет море из тумана.
Ужели в мире нет других земель,
и нет камней без камня Инкермана?
И нет Венеций или Ла-Валетт
без Графской, Сапуна и Телефонки,*
и Лувра нет, и Акрополя нет —
и лишь на нем одном заклинил свет
в последний день последней похоронки?
Он, он один, в отеках до небес,
не ведавший спасенья у причала, —
последний мой и первый Херсонес:
раскаянью и мужеству начало.
1982
Я вспомнил моряка под Инкерманом
в седых каменоломнях ноздреватых.
Млел август сорок первого безводный,
а в знойный полдень после всех атак
над вражескими трупами, в лощине
поплыл на нас знакомый мне когда-то
афганец —
ветер дальних плоскогорий,
и за холмами оживился враг.
Он все поймет,
он все оценит сразу,
он вновь пошлет своих солдат к окопам,
а ветер,
напоенный трупным ядом,
матросов одурманит допьяна…
Но, сжав штыки,
надев противогазы,
лежали мы,
как будто так и надо,
и верили, что после непогоды
всегда приходит штиль и тишина.
Читать дальше
![Григорий Поженян Стихи и песни [WEB] обложка книги](/books/219116/grigorij-pozhenyan-stihi-i-pesni-web-cover.webp)