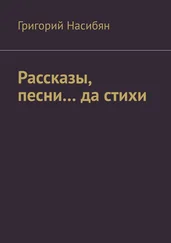"Не тому было сладко от пряностей…"
Не тому было сладко от пряностей,
кто в морях рисковал.
Был обычно в чести тот, кто прятался,
а не тот, кто искал.
Был порою увенчан до одури
тот лакей на коне,
кто от страха кричал:
— Кушать подано! —
А все танки — по мне.
Вот когда не спасают ни надолбы,
ни бетонные рвы.
В смертный час соблюдать себя надобно,
не щадя головы.
И пускай переплавщики дошлые
упрекнуть норовят
отгремевшей «каретою прошлого»,
тихим звоном наград.
Так ли, нет, всё равно нам недодано
из заветной сумы.
Все они — не дошедшие до дому —
тоже мы.
Как же так получилось:
всё заборы, заборы.
Словно минное поле,
где бессильны сапёры.
И напротив, и рядом,
как дорожные знаки:
то нельзя, то не надо.
То — собаки…
И до боли понятно —
не стучись в эти дачи.
В дни торжеств, в дни печалей,
ни с приветом, ни с плачем.
А ведь долгие зимы
мы братались плетнями.
Разве ЗИСы и ЗИМы
вдруг легли между нами?!
А ведь были же вёсны
с песней: «Взвейтесь кострами…»
Разве личные сосны
встали вдруг между нами?!
Над Серебряным бором
тишина тишиною.
Занемевшим укором
звёздный меч надо мною.
1949
Топчу набежавшие тени,
презрев небеса.
Опять начинаю с сирени
и шью паруса.
В убранстве из битой посуды
пойдем налегке.
Опять начинаю с Пицунды.
С тебя на песке.
"Ах, как я кричал когда-то…"
Ах, как я кричал когда-то:
— Вашу мать… концы и кранцы.
Бродят по военкомату
одноногие афганцы.
Их суровые медали
однозвучны и негромки.
Их клевать не перестали
похоронки… похоронки…
Знать бы, что чему основа,
что бедою отбелило.
Может, не случилось снова
то, что было, то, что было.
Может, кануло б с концами
и ушло дурными снами
то, что делали с отцами
и что с нами, и что с нами.
Не пришедших на свиданье —
тех, кто с горечью повенчан,
одарите за страданья
и воздайте за увечья!
Но куда что подевалось,
будь я проклят, в самом деле.
Глупые — навоевались.
Умные — разбогатели.
"В моих ушах, контуженных войной…"
В моих ушах,
контуженных войной,
не гул, не звон,
а чей-то позывной.
Но чей он
и который это год —
я все забыл:
и ключ, и гриф, и код.
В моих ногах
осколки прежних лет.
Они со мной
покинут этот свет,
и вместе с ними
выйдут из огня
тот, кто стрелял,
и тот, кто спас меня.
В моих зрачках
(не я тому виной,
что жив остался,
просто я связной
меж теми, кто живут
и кто мертвы) —
в моих зрачках
зеленый цвет травы.
…Я все, что смог,
скребком годов соскреб.
Я не берег,
не подставлял свой лоб.
Не коротал
в чужой рубахе дни
и был в окопах
всем другим сродни.
В предчувствии
начала и конца —
светлее день
спокойного лица,
уверенней разжатая рука,
добрее уходящая строка.
Иду на дно
и не иду ко дну…
Так две реки
сливаются в одну,
чтоб, растворившись в море
навсегда,
плыла освобожденная
вода.
Если б душа
отделялась от тела,
сколько бы чаек
ко мне прилетело.
Сколько бы ласточек
в окна влетало.
Сколько б коней
в дом тропу протоптало.
Если б душа
отделялась от тела,
я не ходил бы тайком
на Пастера,
в дом, где живут
все друзья неживые.
Где не лежат
и цветы полевые.
Может, потом
и случится такое,
там, за неслышной
подземной рекою,
на перевозе,
где лодочник желтый
знает, зачем
и откуда пришел ты.
Но на земле
не случается чуда.
Тот, кто погиб,
не приходит оттуда.
Были юнцами.
Не стали старее.
Тех, что погибли,
считаю храбрее.
Может, осколки их
были острее?
Может, к ним пули
летели быстрее?!
…Дальше продвинулись.
Дольше горели.
Тех, что погибли,
считаю храбрее. [4] Другое название: Пастера, 27 В августе 1941 года группа моряков под командованием Поженяна сумела отбить у немцев водопроводную станцию и подать в Одессу воду. Почти все моряки в этой операции погибли, Поженян был ранен, но его посчитали погибшим, и в Одессе на улице Пастера, на стене здания, в котором располагался диверсионный отряд, открыта мемориальная доска, на которой среди имён погибших ошибочно значится его имя. Поженян попросил навечно оставить своё имя на этой доске.
Ее топтали нелюди.
По ней катком прошли.
И в наростах,
и в наледи —
прекрасен лик земли.
Читать дальше
![Григорий Поженян Стихи и песни [WEB] обложка книги](/books/219116/grigorij-pozhenyan-stihi-i-pesni-web-cover.webp)