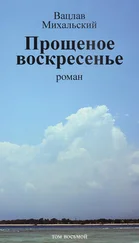Ты отдал чародею // Морские берега. — Здесь впервые упоминается о том, что император в награду за помощь исполнил желание Фауста и отдал ему берег, затопляемый морем.
Сцены этого акта написаны в разное время: первые наброски сделаны еще при жизни Ф. Шиллера, затем Гете продолжил работу над ними уже в 1825–1826 годах; завершение относится к последним месяцам жизни Гете.
Между концом четвертого и началом пятого акта прошло много времени. Фауст стал глубоким стариком; по словам Гете, сказанным Эккерману, ему в пятом акте сто лет (6 июня 1831 г.).
ОТКРЫТАЯ МЕСТНОСТЬ
В эпизоде, открывающем пятый акт, изображены старики Филемон и Бавкида. Их имена символичны. Гете заимствовал их из древнегреческого мифа, где так называли идеальную супружескую пару.
Только ваги огонь сигнальный, // Колокола звон с земли… — Огонь в хижине Филемона служил маяком; в туманную погоду звон колокола местной часовни помогал морякам узнавать, где берег.
ДВОРЕЦ
Так отдал в дни, еще древней, // Свой виноградник Навуфей. — Мефистофель имеет в виду эпизод из Библии (Книга Царств, I, 21), где рассказывается, что царь Агав мечтал захватить виноградник Навуфея, находившийся поблизости от дворца. Так как Навуфей не соглашался покинуть принадлежавшую ему землю, жена Агава оклеветала его; Навуфея избили камнями и отняли виноградник. Мефистофель уподобляет Фауста несправедливому Агаву.
ГЛУБОКАЯ НОЧЬ
Бельведер — вышка, башня для обзора местности.
ПОЛНОЧЬ
Аллегорические фигуры Нехватки, Вины, Заботы и Нужды навеяны Гете эпизодом из «Энеиды» Вергилия (песнь VI, 273–281), где Эней, спускаясь в ад, встречает подобные персонажи.
Есть кто-то, спору нет. — Фаусту в его нынешнем положении уже не страшны обычные житейские тревоги и невзгоды. Однако Забота пытается доказать, что он поспешил поверить в то, что больше ничто не может смутить его покоя. Фауст одерживает победу и над ней, его дух оказывается несломленным и после того, как Забота его ослепила. Заметим, что это место трагедии поддается разным трактовкам, что проявилось в специальных исследованиях на тему «Фауст и Забота».
БОЛЬШОЙ ДВОР ПЕРЕД ДВОРЦОМ
Лемуры — в римской мифологии — духи умерших, пугающие живых. Во время пребывания в Италии Гете видел изображения лемуров на древних могильных памятниках.
Болото тянется вдоль гор… — Финальная речь Фауста содержит «итог всего, что ум скопил»: высшее счастье — совместный труд людей для их общего блага. Подробнее о финале «Фауста» см. в статье Н. Вильмонта в первом томе.
ПОЛОЖЕНИЕ ВО ГРОБ
Название сцены несколько пародийно, ибо этими словами в христианских мифах обозначалось положение во гроб снятого с креста Иисуса. Здесь обряд совершает Мефистофель и бесовские силы. Однако затем в действие вступают небесные силы, парализующие черта и лемуров. Сцена изображает, таким образом, борьбу за душу Фауста. Как известно, в трактовках легенды до Гете (за исключением Лессинга) черти уносили душу Фауста в ад. Гете дал легенде о Фаусте свое окончание.
Пасть адову несите мне сюда! — В средневековом мистериальном театре ад изображался в виде гигантской головы черта с рогами и с разверстой пастью, в которой пылало пламя, предназначенное для сжигания грешников. Этот аксессуар воспроизводился и в театре эпохи барокко, а также в миниатюрном виде на кукольной сцене.
И город мук, дымящийся в огне… — Образ заимствован из «Божественной комедии» Данте («Ад», песнь VIII).
Ту душу, ту крылатую Психею… — Здесь имеется в виду не девушка из легенды об Амуре и Психее, а общее понятие души (по-гречески — «психе»), которую древние греки изображали в виде бабочки.
Хотели мы, чтоб пол был отменен. — Намек на то, что мальчики для хоров католической церкви кастрировались в целях сохранения высокого детского голоса.
Розы румяные… — Розы — символ любви.
Как Иов, весь в нарывах… — В библейском мифе об Иове рассказывается, что среди прочих испытаний, которым он подвергся, одно состояло в нарывах, которыми черт покрыл его «от ступней до макушки».
Подымаются к небу, унося бессмертную сущность Фауста. — Гете не были чужды некоторые остатки идеализма, в данном случае, точнее, витализма, то есть учения о некой таинственной силе, оформляющей пассивную материю, дающую ей жизнь и стимул развития. Аристотель называл эту силу энтелехией, и Гете также пользовался этим названием, понимая под ним неуничтожаемую жизненную силу, присущую каждой духовно развитой личности. См. разговор с Эккерманом 3 марта 1830 г.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу