каким убогим было бы наше существованье,
привязанное к жизни в лачугах,
в страхе от окрестной змеи
или речного духа,
нас, изъясняющихся на местном жаргоне
в три сотни слов,
(подумай о семейных ссорах и
авторучках с ядом, подумай о выведении пород),
и в этот полдень не нашлось бы власти,
что присудила б эту смерть.
Где угодно, где-нибудь
на широкогрудой жизнетворной Земле,
где угодно между ее пустынями
и не пригодным для питья Океаном,
толпа застыла неподвижно,
ее глаза (сливающиеся в один) и ее рты
(кажется, что их бесконечно много)
невыразительны, абсолютно пусты.
Толпа не видит (то, что видит каждый)
спичку из коробка, обломки поезда,
спущенный на воду эсминец,
ей не интересно (как интересно каждому)
кто победит, чей флаг она подымет,
скольких сожгут живьем,
ее не отвлечет
(как отвлек бы любого)
лающий пес, запах рыбы,
комар на лысине:
толпа видит лишь одно
(что только толпа может видеть) —
прозрение того,
кто делает то, что уже сделано.
В любое божество, в которое верит человек
каким-угодно путем исповедания,
(нет двух похожих)
он верит, как один из толпы,
и верит он только в то,
во что единственно и можно верить.
Редкие люди принимают друг друга, и большинство
никогда не поступает правильно,
но толпа никого не отвергает, пристать к толпе —
единственное, что доступно всем.
Только по сему мы можем заявить,
что все люди наши братья,
выросшие, ввиду этого,
из социальных панцирей: Когда,
в кои веки, позабыв о своих королевах,
на одну секунду они прекратили работу
в своих провинциальных городках,
чтобы, как мы, помолиться Принцу этого мира
в этот полдень, на этом холме,
по случаю этой смерти.
То, что нам кажется невозможным,
Хоть время от времени и предсказываемое
Одичавшими отшельниками, шаманами, сивиллами,
Невнятно бормочущими в трансе,
Или явленное ребенку в случайной рифме
Вроде быть-убить, приходит и исчезает,
Прежде чем мы осознаем его: мы удивлены
Непринужденности и легкости наших действий
И встревожены: только три
Пополудни, кровь
Нашей жертвы уже
Подсохла на траве; мы не готовы
К молчанию так внезапно и скоро;
День слишком жаркий и яркий, слишком
Недвижим и вечен; умерший — слишком ничто.
Что делать нам, покуда ночь падет?
Сорвался ветер и мы перестали быть толпой.
Безликое множество, которое обычно
Собирается в момент, когда мир рушится,
Взрывается, сгорает дотла, лопается,
Валится, распиленный пополам, разрублен, разорван,
Расплавлен: ни один из тех, кто лежит,
Растянувшись в тени стен и деревьев,
Не спит спокойно,
Невинный, как ягненок, он не может вспомнить
Зачем и о чем кричал так громко
Сегодня утром на солнцепеке;
Все, вызванные на откровение, ответили бы:
"— Это было чудовище с одним красным глазом,
Толпа, наблюдавшая его смерть, не я." —
Палач ушел умыться, солдаты — перекусить;
Мы остались наедине с нашим подвигом.
Мадонна с зеленым дятлом,
Мадонна фигового дерева,
Мадонна у желтой плотины,
Отворачивая добрые лица от нас
И наших проектов в процессе созидания,
Глядят только в одном направлении,
Останавив взгляд на завершенной нами работе:
Повозка для штабелей, бетономешалка,
Кран и кирка ждут быть задействованными вновь,
Но как нам все это повторить?
Отжив свое деяние, мы есть там, где мы есть,
Отверженные, как нами же
Выброшенные за ненужностью предметы:
Порваные перчатки, проржавевшие чайники,
Покинутые узкоколейки, изношенные, покосившиеся
Жернова, погребенные в крапиве.
Изувеченная плоть, наша жертва,
Слишком обнаженно, слишком ясно объясняет
Очарование аспарагусового сада,
Цель нашей игры в мелки; марки,
Птичьи яйца уже не те, за чудом
Буксирной дорожки и затонувших морских путей,
За восторгом на винтовой лестнице,
Мы теперь всегда будем знать,
К чему они ведут,
В мнимой охоте и мнимой поимке,
В погоне и борьбе, во всплесках,
В одышке и смехе
Будут слышаться плач и неподвижность
Неотвратимо следующие за ними: где бы
Не светило солнце, не бежали ручьи и не писались книги,
Там также будет присутствовать эта смерть.
Читать дальше


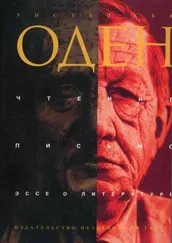


![Сергей Гандлевский - Счастливая ошибка [стихи и эссе о стихах]](/books/407949/sergej-gandlevskij-schastlivaya-oshibka-stihi-i-esse-thumb.webp)




