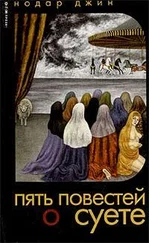Первый удар по моему далеко не могучему здоровью был нанесен нашей неповторимой системой. Как на Белоруссию ветер погнал Чернобыльские тучи, так из Челябинского Кыштыма в 1957–1958 гг. смертельным ветром отнесло беду в те самые места, где мне выпало работать после окончания института. Тогда на эту тему никто пар изо рта не выпускал. Следов тех бед, что произошли от той радиации, в полной мере не найдешь теперь во веки вечные. В людях был жив страх сталинских лет. Знали многие, но молчали. Выпускники свердловского мединститута в те края не ехали ни под каким видом. Объяснить, что из всех форм белокровия в тех благодатных краях без намека на промышленность встречалась самая злокачественная, от которой люди неизбежно погибали через 2 недели или через 2 месяца, не решался тогда никто. Позже я слышала, что в первые дни после аварии проезжавшие Транссибирской магистралью далеко не успевали уехать. Они погибали от «неизвестных» причин или при «странных» обстоятельствах. К шестидесятому году, кому суждено было погибнуть от острого процесса, это уже сделали. Уходили они под странными диагнозами. В большом ходу была такая ересь, как безжелтушная форма болезни Боткина, обычно со смертельным исходом. А если болезнь начиналась, как у меня, с жестокого язвенно — некротического процесса во рту, использовался другой диагностический перл — оральный, т. е. исходящий изо рта, сепсис, т. е. заражение крови. Явная глупость, т. к. она обозначала не причину, а следствие. Но чиновникам от здраво — охранения велено было прятать концы в воду, и они делали свое дело. О тех моих тяжелых временах у меня есть нынешние воспоминания:
Вам приходилось как‑нибудь болеть
серьезно, сильно, не надеясь выжить?
Лежать как пласт, не думать, не скорбеть,
а по углам тревожный шепот слышать.
Мне приходилось. И сегодня я
так ясно вижу страх в глазах у близких
и шепот, шепот… Им моя семья
тогда общалась. Мой конец был близок.
И уходящим разума лучом мелькнуло:
«Дочь меня не будет помнить!»
И все. И все. И больше ни о чем,
хоть ты убей, но я не в силах вспомнить.
А долго я еще была больна,
и мой конец не составлял секрета.
Была спокойна я и холодна,
как говорили после мне об этом.
А о болезни всяческую чушь
пороли мне, а я себе молчала
и верила. И, во спасенье душ,
я этой лжи никак не различала.
Я выжила. Не знаю, почему.
Как видно, не пришел тогда мой час.
Смерть не всегда сильна. А потому
надежда умирает после нас.
Я не умерла в остром периоде. Такова была Господня воля, потому что усилия людей не очень мне помогли, а вначале так явно были направлены на то, чтобы быстрее обрубить и бросить концы в воду. Последующие семь лет — а среди них и дикое напряжение трех успешных лет аспирантуры, затем семейные передряги из‑за развода, бесквартирные мытарства, инфаркт — как минимум один — два месяца в году я истекала кровью в больнице. Источники кровотечения были разными — результат одинаков. Я чувствовала, что если это не прекратится еще год — два, я уйду, оставив беспомощную маму за семьдесят и маленькую дочку. Только о них были мои заботы. Официальная медицина могла мне тогда предложить только хирургическое удаление кровоточащего органа — всю или половину толстой кишки, желудок и проч. Я, как раненый зверь, который еще до рождения знает, что раны надо зализывать, спасалась от такой участи, т. к. предвидела ее исход. Я боялась, что это сделают, когда я потеряю сознание от кровопотери…
И вот в это время от меня требовалось отдать большой кусок моих душевных сил на алтарь этого безжалостного идола, имя которому любовь.
Не приходи, прошу, не приходи.
Не мучь меня, оставь меня в покое.
Из памяти, из сердца уходи.
Я стерла все, что связано с тобою.
Кто сказал, что любовь — это счастье,
яркий свет и звучащий орган,
а не стылое горе — ненастье,
а не смерч, а не злой ураган?
Кто сказал, что любви частицу
Бог избранникам в сердце вложил?
Кто поверил: любовь — это птица,
и в полет снарядился без крыл?
Не приходи, прошу, не приходи.
Не мучь меня, оставь меня в покое.
Спокойствие ты только соблюди,
я ж от тебя свою любовь укрою.
Не приходи, прошу, не приходи…
Романс на эти стихи был написан спустя двадцать два года после событий тех лет. Стихи и музыка вместе, враз. В одну из длинных тяжелых больничных ночей, которых я провела в общей сложности более пяти месяцев за два года в одной столичной клинике, куда я четырежды ездила на операции. Пишу я стихи обычно ночью. Не той ночью, когда в цивилизованной обстановке человек сидит за письменным столом с настольной лампой. А той, когда все нормальные люди спят и не так далеко до рассвета, когда зажечь свет невозможно, когда можно только нащупать блокнот с карандашом и постараться не наехать строкой на строку. У меня есть такие черновики. В них стихи, как правило, не требуют правки, а написаны они так разборчиво, так понятно, как и в зрячем состоянии я не пишу почти никогда.
Читать дальше