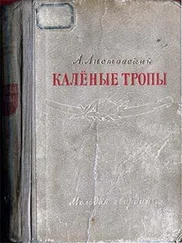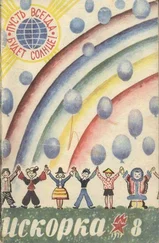Остановились, посмотрели —
И закружились у постели
В водоворот шаманской пляски.
Визг, вой…
Эй, тупорылые людские маски,
Я принимаю бой!
На перекошенной картине
Чадят огни,
В одной барахтаемся тине —
Я и они.
Кольцо — теснее, — вьется жгут.
Да неужели я тот шут,
Что пляшет среди них вприсядку,
А в сердце нож по рукоятку?
Раздается, мелочь,
Ходи с туза!
Кто взглянет смело
Мне в глаза?
Не размыкается кольцо,
Хихикают, плюют в лицо.
Плевками солнце тушат.
О, не пронзит любви стрела
Вот эти дряблые тела
И испитые души!
Невмоготу мне, душно как в гробу.
Когда б закинуть мог судьбу
На дальнюю звезду, пылающую Весту,
Нежнее эльфовых огней
С земли светил бы взор моей
Слюною похоти замусленной невесты.
Но фильма крутится. Глумится вереница
Разрозненных нелепых сцен,
Видений прежних легкие страницы
Не оживут под тысячью измен.
Теперь хотеть осталось мало:
С холодной твердостью рукой усталой
Все замыслы свои связать и сжечь,
Как связку писем милых — в печь!
Спокойно поклониться праху
И встретить доблестно конец:
Как на престол принять венец,
Взойти на героическую плаху.
Взрасти хоть злобу, бледная юдоль,
Бездарный режиссер искомкать хочет роль!
Иль будет так: усталость
Пригнет к заржавленным щитам,
Чтоб даже эхо не раздалось,
Веселой платы по счетам.
Я знаю, жадно ждете, вороны,
Когда расхлябанный, покорный
Начну дрожать, зубами лязгать,
Кляня те гордые лета,
Чтоб заглушить в трясине вязкой
Хруст перебитого хребта
И на осклизлом мокром ветре
Задуть навек мою свечу…
IV
На тысячу шестьсот двадцатом метре,
Не выдержав, вскочу.
Как прежде сильный.
— Послушайте! — вскричу, —
Мне подменили фильму.
Всё перепутал оператор спьяна…
И брызжет память клеветой.
А я не тот разменянный герой
С лицом порочнее портрета Дориана!
Не буду пусть вооружен,
Не затяну коню подпругу,
Но будет страшен стали звон:
Нагою грудью о кольчугу!
О, скоро ряску затхлых вод
Развеет гибельный водоворот.
За веру, что во мне убили,
По всей земле пройдут с мечом,
Отравленную мудрость гнили
Звериным заменив чутьем.
Я стану бледен и суров
При этой схватке двух миров
В самом себе и на планете
При пляшущем багровом свете —
Как не хотеть тогда быть с ними,
С такими жадными и молодыми!
Схвачусь за тугие снасти,
И настежь —
В душе все двери
Для новой здоровой заразы,
Чтоб сразу
Всей кровью поверить,
Гневно трубя,
Крепко — вот так —
Всего себя
Сжав в кулак.
Сладких ваших обманов не надо,
Выпрямлюсь в рост.
Я в себе обрету Эльдорадо,
Мир будет прост.
Жизни простой сочной
Кто потерял след,
Тех разорвет в клочья
Шквал перепутанных лет.
Или мне плакать снова,
Жалостно песни петь?
Не найти ведь такого большого,
Чтоб мог меня пожалеть.
Эй, выбирай скорее,
Время-скакун не ждет.
Двух мне в себе не склеить,
Пусть же один умрет!
Россыпи золота весен
Плавь на огне в звезду.
Их уж прошло двадцать восемь.
Те, кто живут, не ждут.
Смелый идет в пургу,
Ищет цветы в снегу —
В душах грубых и черных
Нежности крупные зерна.
V
Свод пополам расколот.
Фильма развертывается еще.
И снова я молод…
Шулерский рву счет.
Преображенный Лазарь,
Ясно во взгляд недобрый,
В острые два глаза
Зеленоватой кобры
Смотрю:
Всё светлеет —
Нет, на эту зарю
Посягнуть никто не посмеет!
Ни одной слезы старой были,
Расправлю для нового плечи.
В колючих лучах тает нечисть,
Те глаза закатились, уплыли.
Сдираю ветхие отрепья,
Провижу много в буйном свете.
Всё шире грудь вздымает ветер.
И вот — в простом великолепье
По ступеням невиданных дорог
Нисходит Он, теперь мой Бог,
Такой простой и величавый,
Овеянный земною славой.
О, как вскипит, взметнется кровь!
Со мной теперь мой Бог и старая любовь.
Всю мудрость жесткую Твою измерив,
О, Господи, я верю, верю…
Ты, сердце, не стучи.
Узнаю всё сейчас:
Как копьями, Его лучи
Пронзят всех нас.
Восторг мой так…
Он чересчур остер,
Еще…
Но мертвым падает тапер.
1924
Вячеслав Нечаев. Об Александре Туринцеве (Послесловие)
В антологии «Строфы века» есть страница, посвященная Александру Александровичу Туринцеву. Вот что писал Евгений Евтушенко, предваряя публикацию туринцевского стихотворения:
«В последние годы был настоятелем русской церкви в Париже и очень часто приезжал в Москву, очаровывая всех, с кем встречался, не только рассказами о встречах с Гумилевым, поэтами «парижской ноты» в пору эмиграции, но и драгоценным умением выслушать чужие боли, обиды, посоветовать. Жаль, что этот уникальный рассказчик и выслушиватель не оставил после себя книгу воспоминаний.
Читать дальше