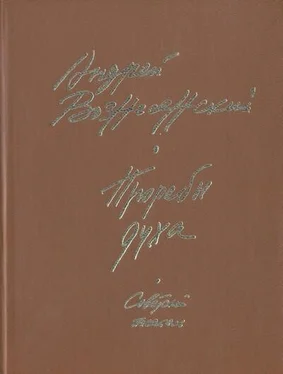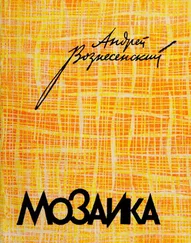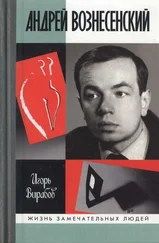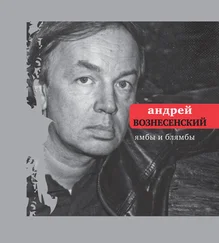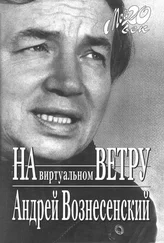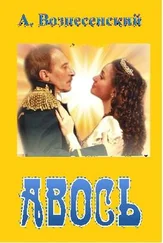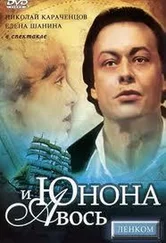А Катаев имеет кепки,
сплющенные, как скрепки,
для пришпиливания мозгов.
Фиалковые, стиляжные —
с тылу для вентиляции
с ситечком или сеткой,
как у рыцарских поясов,
дабы Прекрасных Дам блюсти.
Пусть иногда мы скептики.
Боги имеют слабости.
Но не у всех сабли «За храбрость». И…
Когда-то я часто бывал у него. Потом время отдалило нас. Эту юбилейную статью заказала мне «Юность» к его семидесятипятилетию.
Катаевский «Белеет парус» — лермонтовская строка, понятая как детство, как порыв и мятежность детства, отрочества, — стал нашим детством. В серебристом переплете она празднично и навеки, щемя неизвестностью, легла в день рождения на мою тумбочку, подаренная мамой — как и миллионам иных советских детств, и так же навеки в них осталась.
Стиховым парусом другого его романа стала строка Маяковского «Время, вперед!», но к чисто поэтическому построению он пришел лишь в последних вещах. В «Святом колодце» материализуется ход времени. Вещь эту можно читать с середины, с конца, с начала — как жизнь. Фигурка старика, моющего бутылки, — перекликается с каренинским сцепщиком, бормочущим под вагонами.
Сам прошедши жестокую выучку придирчивой бунинской линейкой, Катаев таит в себе тайны Гоголя, Чехова, Пруста, он знает, как передать это молодым. Он был инициатором журнала «Юность». Она родилась не только как ежемесячник для читающего молодняка, но и как школа мастерства молодых. О, эти редакционные чаепития с широким шумом самовара, не электрического, новомодного, нет, натурального — на сосновых шишках, древесных углях, приобретенного самим редактором чуть ли не в первый день существования «Юности»!
Журнал основать — как город заложить. И вот уже полтора десятка лет шумит, обрастает улицами, рожает, перестраивается этот многомиллионный город на бойком месте, именуемый «Юностью». «Юность» была для многих лицеем.
Зрачок Катаева меток, зол, жест молодцеват, лих. Взгляните, как свистящ его кавалерийский почерк: «Перед мельницей стояли старые, головастые ветлы, похожие на богатырские палицы, из которых во все стороны торчали голые прутья, и все это напоминало мучения святого Себастьяна, утыканного стрелами».
Или:
«…в то время как в церкви позванивали тонкие воскресные колокола и в пролете каменной готической двери, всегда напоминавшей костры восковых свечей».
«Еще четыреста, — сказал он вам однажды, прощаясь, — еще четыреста…»
Поэзия не терпит платоники, умозрительного понимания. Лучший вид понимания иноязычного поэта — самому перевести его, почувствовать стих на ощупь.
Что означает перевод?
Это значит перевести свое ощущение, стрелки своих часов на час поэта, как во время долгих ночных перелетов в бессонных аэропортах пассажиры переводят часы на нью-йоркское, токийское, парижское и иное время.
Милый читатель, переведите себя на стрелки Чаклайса.
«Сколько на ваших? Ах, пять минут третьего… Вероятно, вы правы. День какой? Ах, двадцать второе декабря? Может быть…»
А на часах Чаклайса — Час Ежа, Секунда Кузнечика, День Травы.
Поэт живет в иных измерениях, в светлых движениях тени, в кувшинках. Летом живет он там, где тенистая Лиелупе впадает в море, среди осоки, песка, бесконечного прибоя и резиновых лодок, эпики и интима.
Я полюбил вас, руки кувшинок,
шум камышиный, птичьи ватаги,
я прикасаюсь рукою мужчины
к лодкам со скользкими животами.
(Перевод А. Вознесенского)
Он прежде всего принадлежит Латвии с ее дрожащим воздухом и каким-то особым, я бы сказал, поэтическим микроклиматом. Не знаю места, где бы так свободно и легко писалось. Думаю, дело в каком-то особом химическом составе воздуха. Может быть, потом откроют тайну этого состава, как некогда таинственная вода, называемая «Арани» или «Боржоми», открыла сейчас свою чудодейственную формулу. В Болгарии купили завод кока-колы. Но порошок разводили на местной хрустальной горной воде. Такой кока-колы нет ни в одной точке земли. Американцы ломают головы и колбы над болгарской водой. Так же непонятен и чуден воздух Латвии. Это воздух поэзии.
Латышская поэзия прекрасна сейчас. Самые плодотворные корни ее из Александра Чака, латышского поэта. Это трагическая расцветка поэзии Вациетиса. Это неожиданный, забористый Зиедонис. В нем ритм времени. А по побережью бродит поэтесса с огромными витражными очами, Визма Белшевиц. Стихи ее — стон:
Читать дальше