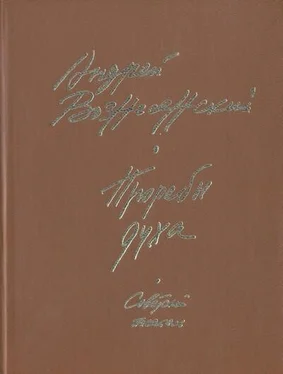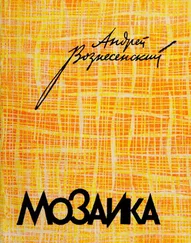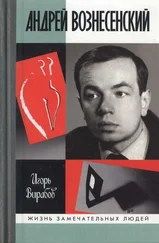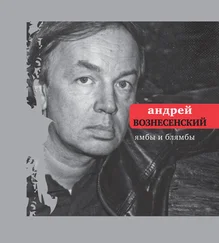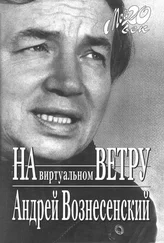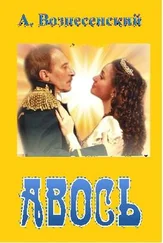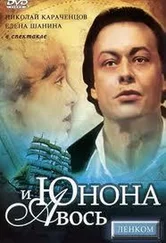Глуховатым говорком на «о» Щипачев читал Тютчева, пораженный сердечным срывом ритма строки:
О как ка склоне наших лет
Нежней мы любим и суеверней…
Сияй, сияй, прощальный свет
Любви последней, зари вечерней!
Он много сделал для нравственной атмосферы в литературном кругу. Редкостной порядочности и щепетильности был он. Чужой удаче радовался как своей. Став московским секретарем, мог ночью позвонить, поздравить с публикацией.
«Юноша с седою головой», как самозабвенно он любил чужие стихи, напрочь лишенный чувства зависти и ревности, двигателя стольких литературных индивидуальностей! Смущенно откашлявшись, он дал почитать мне дневниковую северянинскую поэму «Колокола собора чувств», упоенное воспоминание о путешествии «короля поэтов» с Маяковским по Крыму, полное бурной иронии и любовных куролесов. Он восхищался названием. Вообще у этих, казалось бы, столь далеких поэтов были общие мотивы.
Она идет тропинкой в гору,
Закатный отблеск по лицу
И по венчальному кольцу
Скользит оранжево. Бел ворот
Ее рубашечки сквозной…
Строки эти, помеченные июнем 1912 года, некий зыбкий, чувственный свет, не жест стиха, нет, именно световая недосказанная тяга роднит со строками, написанными другим, седовласым поэтом ровно через сорок лет, в 1952 году:
На ней простая блузка в клетку,
идет, покусывает ветку.
Горчит, должно быть, на губах.
Июнь черемухой пропах.
Он сыплет легким белым цветом
на плечи женщине, на грудь.
Она совсем легко одета,
идет, поеживаясь чуть,
то с горки тропкою сбегает,
то затеряется в листве…
Некое смятение, колдовство тайны и молодого движения сближает эти мотивы столь далеких поэтов.
В бытность мою начинающим поэтом, узнав, что я маюсь в городе аллергией, не зная меня лично, Степан Петрович нашел меня и поселил в пустующей своей даче, под каким-то предлогом съехав в Москву. Кто бы еще совершил такое? Целую зиму я прожил на его мансарде, среди книжных полок, бытового аскетизма, душевной опрятности, тщетно пытаясь понять натуру седого певца светлых строк, застенчивого и внутренне очень одинокого романтика.
Наверное, порядочность, внутренняя чистоплотность и сближали его с Казиным. Они оба ни при каких погодах, ни при мирных, ни при грозных, ничьей судьбе не нанесли зла.
О чем говорили они, два друга, один отрешенно высокий, другой щемяще маленький, моргающий ресничками, уходя заснеженными переделкинскими дорожками? Об ушедших рыцарях Пролеткульта? Об архаике веры?
Сегодня нет ни их, ни их переделкинских великих соседей. Они проходят, не оставляя следов на несмятых снегах.
Но остались в людской жизни рыжий жеребенок Есенина, щипачевская скамейка и лебединый рубанок Казина.
Арагон лежал навзничь на своей исторической кровати. Аристократическая голова с пигментными пятнами была закинута на подушки. Губы сжаты добела. Модные плечи его вечернего концертного пиджака недоуменно подняты. Еще не сложенные на груди, сухие, нервные кисти рук с рыжими волосинками, оправленные в белые манжеты, были выпростаны поверх покрывала. Они впились в простыню, как кисти пианиста хищно вжимаются в белую клавиатуру.
На осунувшемся и как бы помолодевшем лице застыло состояние напряженности и какого-то освобождения, будто он, прикрыв веки, прислушивается к чему-то неведомому еще нам.
Что за музыку нащупал он, что за вещий, скрытый от нас пока что смысл?
На правом безымянном пальце тяжелел перстень. В левой петлице мерцала овальная перламутровая брошь с вензелем «Э». Спинка кровати вплотную была придвинута к стене, где, как иконостас, были с давних пор приклеены им фотографии Маяковского, Асеева, Бурлюка и футуристов. Прямо над затылком белела шутейно повешенная им табличка на русском: «Место не занимать». Повешенная над кроватью как постельный юмор, она приобретала сейчас смысл иной.
Всеобщего доступа к телу не было. Опасались провокаций. В пустынной спальне, в коридорах его палаццо стояла гулкая вековая тишина. Картины выходили из рам. Из-за окон доносилось беспечное парижское рождество.
Никого вроде рядом не было, но мне явственно виделась незримая шеренга фигур над его телом. Я видел, как пришли к нему на прощание его сородичи. Почетным караулом над ним застыли Ронсар, Нерваль, Элюар, Бретон, Матисс, Пикассо — вот-вот он к ним сейчас присоединится. И незримым конвейером примыкала к нему вереница еще живущих, но которые примкнут к ряду бессмертных, — шли Рицос, Рафаэль Альберти, Шагал, Маркес и иные, иные…
Читать дальше