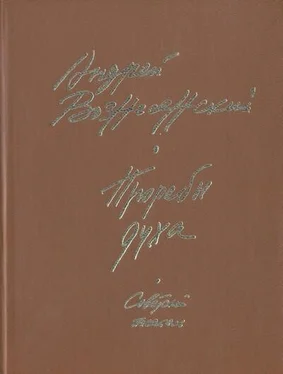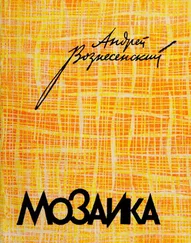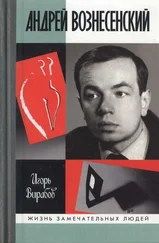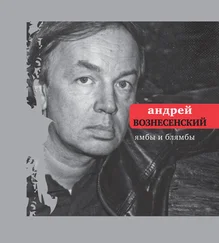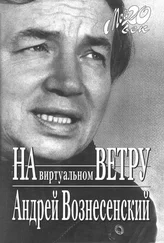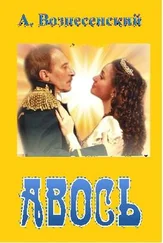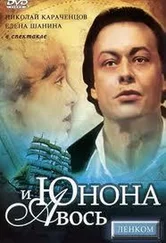Окутанный паром дыхания, я как-то брел морозной подмосковной скрипучей ночью. В кювете на боку лежала «Волга». Уже припорошенная снежком, она походила на птенца, выпавшего из гнезда, выбившегося из сил и притихшего.
Я провалился в сугроб, открыл дверцу. Во тьме проема кто-то спал — его грузное тело сползло от руля к дальней дверце. Я попробовал вытащить и поднять его — тело было неподъемным.
Неожиданно я узнал эти смуглые непробудные скулы. Они принадлежали таланту сильному, мускулистому, упрямому. Он прошел фронт и мировые бездны. Его раненого вытащил на себе Наровчатов. Мы не были приятелями. Когда он читал, покоряла недюжинная свобода интонаций, то есть судьба. Его губы были притянуты близко к носу, будто он принюхивался к кислому суетному быту после широкого ветра войны. Сейчас в нахмуренном трудном сне губы тянулись совсем по-детски.
«Волга» лежала против движения. Вероятно, сознание оставило его, когда он разворачивался, или он сбился с пути в непонятном мирном существовании, или хотел рвануть наперекор всему — кто знает?
В этот непроглядный час машин ни на дороге, ни на шоссе не ожидалось. Я дошел до гаража городка, добудился сторожа, потом мы подняли в теплой квартире из домашних снов шофера в заспанной майке. Тот для порядка поматерился, но воспринял все как естественное.
Вывернули колеса «Волги». Самосвал напряг трос, машина хмуро дернулась. Как ей не хотелось покидать мягкое, снежное, холодное гнездо, вырываться из снов, дурмана, памяти войны, молодости — так душа и улетевшая жизнь хмуро противятся воле реаниматоров, познав уже дикую угрюмую свободу, не даются тросу реанимации, который уверенно и неотступно тянет ее сквозь ирреальную дыру обратно в земное бытие.
Потом, встречаясь, мы никогда не заговаривали с ним об этой дороге, но что-то между нами произошло. Я частенько чувствовал на себе его особый тепло-карий взгляд…
Осипшие тормоза машины вырывают меня из грез российских воспоминаний. Возвращают, так сказать, к реальности, к прозе жизни.
— Приехали!
Разминаем затекшие ноги. Перед нами белая усадьба Мура. Круг замыкается.
Осторожнее, не потревожьте мастера! Мур невозмутимо лепит свои крохотные фигурки — нас с вами. Круг кончается.
Век кончается, а он все будто не понимает, зачем вы заявились к нему и что пытаетесь спросить.
Он радушен к гостям, твой тайный крестный. Когда мы трапезничаем, он пересаживает меня на другую сторону стола, откуда лучше вид на древний барельеф, подсвеченный на стене юпитером. Входит рабочий с хомяком в руке. Он, разговаривая, перебирает хомяка рукой, как свисающие живые золотые четки. Хомяк не всегда в восторге от этого. Об этом свидетельствует прокусанный палец. Мур хищно впивается в золотую изгибающуюся форму. И опять будто не замечает, что я, прощаясь, стою ссутулившимся вопросом.
Вместо ответа, что-то ворча под нос, он дарит свой рисунок. И сам упаковывает. Мол, дома развернете и все поймете. Закутывает в целлофан, прокладывает картонкой. Не найдя второго картона, отрывает обложку от альбома для набросков. Потом все аккуратно заклеивает скотчем.
Ответьте себе, ну почему вы тогда не удержали ее?
— Обладайте всей полнотой жизни, обновляйте форму, дерзайте, — говорил мне Павлов, — но только не теряйте себя, не преступайте бездну, не вступайте в черную дыру.
Черная дыра стоит посредине моей комнаты. Ее взгляд открыт и ожидающ.
Я вошел в черную дыру.
Дант ошибся, описывая ее как безнадежный промозглый сводчатый коридор. Его ад — память. Его заставили забыть, что он видел, стерли память и вложили вместо этого ложную информацию.
Там нет ни времени, ни пространства. Все заполнено бескрайним внутренним голосом.
Ориентиром, запоминающим место, где я вошел, оставалось лишь висящее, как на вешалке, мое поношенное тело с изъеденным молью затылком и видавшим виды немодным носом. Было жаль расставаться с ним. Оно, удаляясь, уменьшалось.
Я продвигался, минуя воздушные ямы. В них томились клочки сметенной энергии. Это были мученики памяти. Так в восточных деспотиях пытали, сажая на ведро с крысой. Бедное животное, чтобы вырваться наружу, проедало внутренности.
С краю бледный акселерат в бессчетный раз бил молотком по черепу своей матери. Страдалица, подняв залитое кровью лицо, молила: «Оставьте его, он не виноват, я сама ударилась».
Измученный юнец обернулся ко мне и, запыхавшись, спросил: «Новенький, что сейчас лабают на планете? Напомни мне «Пинк Флойда». Всю память тут отшибли».
Читать дальше