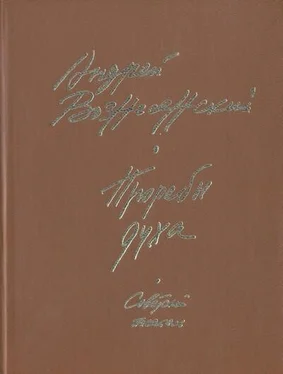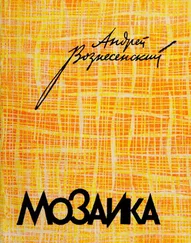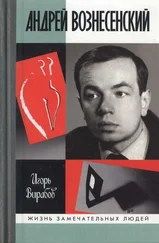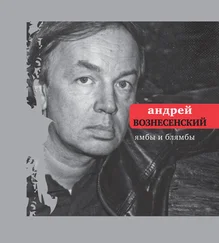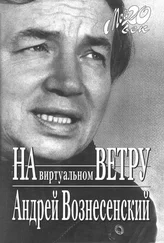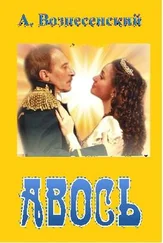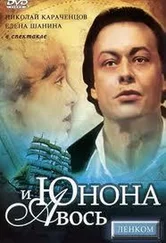На следующий день, 1 июня, я отправился ка Минское шоссе. Я мстительно надеялся на строителей. Вдруг они перекосят всю идею — и наваждение не состоится. В противном случае надо было менять место жительства.
Светло-серая стенка Автосервиса стояла на горе, вся на фоне ясного золотистого неба. В ней зияли горизонтальным рядом четыре еще не застекленные циркульные дыры. Есть такие хранилки для монет, изготовленные из светлого металла, с круглыми дырами, куда утапливают монеты. Их любят таксисты. Автосервис походил на такую хранилку.
И что поразительно! Солнце садилось точно за Автосервисом. И золотой диск его был точно такого же диаметра, как дыры. Как это удалось рассчитать зодчему? Или солнце, полюбив его (что там овцы!), подгадало место для заката и выверило размер? «И в ту дыру, наверно…» Было пять одинаковых кругов — четыре черных, как затмение, и одно золотое.
Солнце помедлило над ними, поразмыслив, потом раздумало и на этот раз закатилось за горизонт.
Потомственная «белая дыра», Павлов не выносит рефлексирующих «черных дыр». Даже темные ниши в своих домах он расписывает. Цвет съедает тень.
Он что-то чует, он подозрительно принюхивается ко мне, во время разговора приближая лицо, как милиционер, якобы невзначай, наклоняется пс чти вплотную к водителю, чтобы узнать, не попахивает ли мерзкой черной дырой.
Искушение продолжается. Павлов вдруг хорошеет.
— Это моя любимая вещь — вещь жизни.
Так говорят о женщине. Он достает заветное фото. Это очень откровенное фото. Идет пылкая стройка. В строительном ритме есть поспешность объятий. Человек-совесть волнуется, ревниво сопит. Мне даже неловко смотреть. Наконец леса сброшены — и два спокойных, огромных, плоских квадрата остаются парить в воздухе.
Москвичи знают это плоское здание, как заслонка замыкающее Ломоносовский проспект. Это здание — Ухо. Посредине его, как на пластиковом стенде, повешено скульптурно-мозаичное ухо с огромной дырой. Пушкин гениально дал жизнь отрубленной голове. Гоголь отрезал нос, а Павлов поставил памятник Уху. Оно обращено к Черемушкинскому рынку. Там царит хаос бурной речи, хруст овощей, цветастых словес, пестрота и неорганизованность форм и страстей, разгул стихии, где Восток дынь встречается с Севером морошки, где дольки чеснока хранят от гриппа и вампиров, где молодая картошка в конце мая стоит двенадцать рублей, а телятина — десять рублей, где в углу справа лучшие розы в Москве, где бушует вакханалия расчета. Контрастируя с ней, два стройных квадрата Вычислительного центра напоминают о вечности и гармонии.
Когда Ухо улавливает особенно сочные изречения, оно мозаично краснеет, как в консерватории (если вы заметили, сидя сзади) краснеют от наслаждения уши меломанов, уловивших гениальную ноту.
— Да это никакое не ухо, это лента Мебиуса, — доказывает Павлов. — Это скульптурно-философская восьмерка, говорящая о бесконечности пространства, с почти муровской дырой посередине. Это глаз в нутро матери-природы. Я придал ему размер — одна миллионная диаметра Земли. Это магический модуль моей вещи. Все детали кратны этому числу. Поэтому вас и тянет к пропорциям этого квадрата — инстинктом человек чувствует соразмерность с Землею.
Но ему никто не верит, все знают, что это памятник Уху. И, завидя его, приветственно шевелятся уши горожан.
Но Павлов настаивает:
— Поглядите, какая гипнотичность пропорций фасадов…
Но подтекстом звучит: «Изменщик! Неужели вы можете въезжать в города, ходить мимо прекрасных зданий, не мучиться? Неужели вы не ревнуете к создателям? Вот они стоят, возлюбленные вашей жизни. Вы их отдали другим. Архитектура была не пустяком для вас — вы вкладывали страсть в нее. Ее статная чувственная античная линия была линией вашей жизни. Как вы можете жить теперь, зная, что она несчастлива в чужих воровских руках, что кто-то другой лепит ее, заставляет принимать уродские наглые позы, а если она счастлива с кем-то — это же мука двойная! Вы любили ее, вы и сейчас ее любите, я-то знаю. Как вы могли, Андрюша?»
Он отроком прошел школу иконописной страсти Мстеры, потом подвижнически учился в кельях Вхутемаса у Весниных, Леонидова и Митурича, потом был художником у неистового Мейерхольда, тот, ошеломленный его небесным взором, уговаривал его сыграть Чацкого, но юноша не изменил архитектуре. Он работал с Маяковским и Шостаковичем. Дружил с Туполевым, который, как и Ильюшин, прекрасный рисовальщик, учился во Вхутемасе. Дочка Павлова, Капля, которая сейчас поступает тоже в Архитектурный, звала того «дедушка Ту». Русская культура с синеглазой сокрушенностью смотрит на вас.
Читать дальше