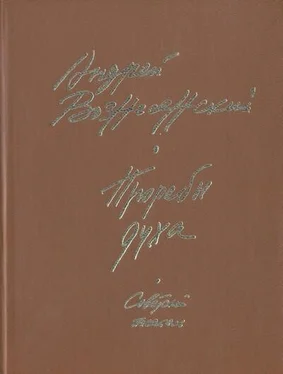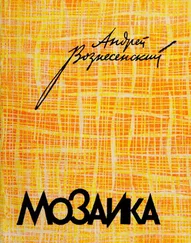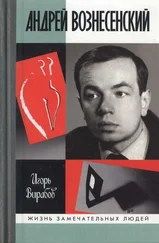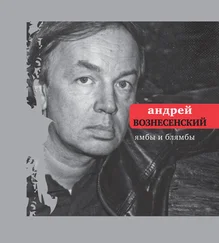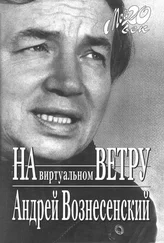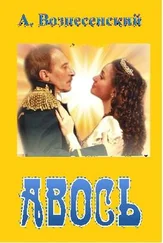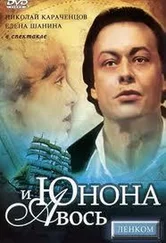На попутном грузовике по знаменитой Владимирке мы приезжали в город с белым кремлем на холме.
Белокаменный проем арки гениальных Золотых ворот обретал форму О, по пояс врытую в землю.
Одолело виденье!
Одутловатый медвяный образ преследует меня.
Отстань! Таких уже нет в нашей жизни. Я прилеплю тебя к этой странице, чтобы ты от меня отцепился.
Круглых дураков мне не встречалось, зато овальных хватает. Зайдешь к нему, к редактору, в кабинет. У него абсолютный вкус. Его глазки мгновенно сужаются, найдя лучшую строку. «Гениально», — сладострастно стонет он и вычеркивает ее. У поэта Вентилянского есть тетрадь вычеркнутых им строк из разных авторов. Это целая антология. К счастью, не все редакторы, даже в пятидесятые годы, были такими.
Моя знакомая, талантливый критик, была в восторге от одной повести. Она трепетала и цепенела. «Почему же ты о ней не напишешь?» — «Мне никто не заказал статьи», — вздохнула. Как будто Толстой ждал заказа на свое «Не могу молчать!», а Булгаков дожидался договора, чтобы начать своего «Мастера»! Думаю, что у меня не было бы ни одного стихотворения, если бы я ждал на них заказа редакций журналов.
Судьба чаще заносила меня в круг добрых людей, — это высоченный, из породы переделкинских сосен, недосягаемый энциклопедист Чуковский; это домашний Маршак с плотно прихлопнутым ртом, похожим на сказочный кошелек, набитый золотыми монетами слов; это первый силач из московских поэтов Коля Глазков, в обхватку боровшийся с зеленым змием.
В С. С. Наровчатове была голубоглазая грузность екатерининских военачальников. Его окутывала пороховая и волшебная дымка российской истории. Его серый пиджак бывал помятым, но мне всегда казалось, что его согнутая в локте рука держит треуголку и жемчужный фельдмаршальский жезл. Легкая одышка напоминала о тяжелых перевалах судьбы.
Отношения у нас были заповедными. Когда-то он побранил меня в статье. Озлившись, я печатно обозвал его Нравоучатовым. Другой бы мстил. Но он был творянином. В нем была широта. Мы встретились и говорили о судьбе и истории, он сказал, что не все понимал, он поделился замыслом своего рассказа о диспуте с Иоанном Грозным, подначивал меня опробовать прозу. В его взоре синела смущенная нежность художника и книжного княжича. Он напечатал наиболее дорогие мои вещи и написал в «Правде» обо мне самую лестную статью.
Около Владимира, во Мстере, учился Павлов. Павлов — творянин из дворян. Брат его матери генерал Костяев, герой японской и германской войн, знавший семь языков, стал начальником Полевого штаба Красной Армии, был в числе десяти обладателей четырех ромбов. В детстве Павлов дома близко общался с Тухачевским, с не снимавшей шляпку Коллонтай, играл в городки с бородатым Дыбенко. Когда Деникин подходил к Москве, под Тулой голодная дивизия взбунтовалась против Троцкого и грозила перейти к Деникину. Послали Костяева. Человек безумной храбрости, он в одиночку вышел на митинг перед разбушевавшейся стихией и распахнул командармскую шинель. Под ней был надет генеральский мундир с золотыми эполетами, лентами и орденами. «Видите, я, царский генерал, стал красным. А вы!» Он убедил.
Областное Владимирское издательство выпустило первую мою книгу. Нашла меня редактор Капа Афанасьева и предложила издаться. В России нет литературной провинции.
Капа была святая.
Стройная, бледная, резкая, она носила суровое полотняное платье. Правое угловатое плечо ее было ниже от портфеля. Она курила «Беломор» и высоко носила русую косу, уложенную вокруг головы венециановским венчиком. Засунутые наспех шпильки и заколки осыпались на рукописи, как сдвоенные длинные сосновые иглы.
Дома у нее было шаром покати.
Они с мужем, детьми и бабушками ютились в угловатых комнатах деревянного дома. Вечно на диване кто-то спал из приезжих или бездомных писателей. У нее был талант чутья. Она открыла многих владимирских поэтов. Быт не приставал к ней. Она ходила по кухне между спорящими о смысле жизни, не касаясь половиц, будто кто-то невидимый нес ее, подняв за голову, обхватив за виски золотым ухватом ее тесной косы. В ней просвечивала тень тургеневских женщин и Анны Достоевской. На таких, как она, держится русская литература. Когда Некрасов писал о русской женщине, он писал о Капе. В ней выпрямилась судьба нашей земли, которая не согнулась прежде, которая не гнется и в сегодняшних тяготах и высоко несет свой русый венчик.
Когда вышла «Мозаика», грянул гром. Это была пора перегибов, которые потом называли волюнтаризмом. Позвонили прикрыть тираж, но его уже продали. Капу вызвали в большой город. Сановный хам, собрав совещание, орал на нее. Обвинения сейчас кажутся смехотворными — например, употребление слов «беременная», «лбы». Он шил политику. Капа, тихая Капа прервала его, встала и в испуганной тишине произнесла вдохновенную речь в защиту поэзии. И, не докончив, выскочила из зала. Потом несколько часов у нее была истерика. Ее отстранили от работы.
Читать дальше