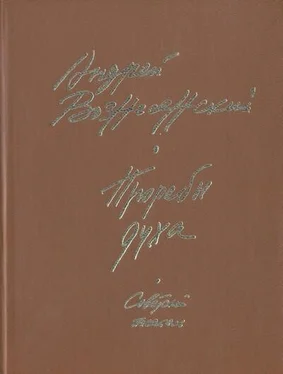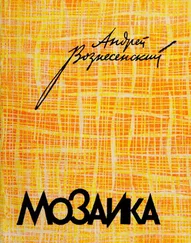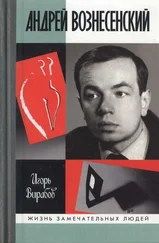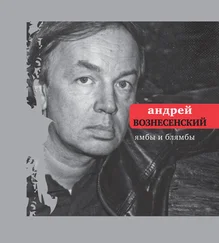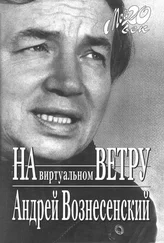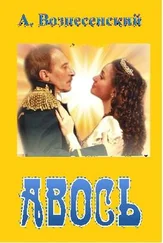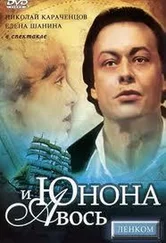В тот день на все мои телефонные звонки отвечали Пушкин, Юлий Цезарь и чугуевская баня. Кто-то отсосал всю темноту в кувшинах. Она радостно лыбилась, требуя поощрения.
— Займись делом! Оставь «Аэрофлот» в покое. Твои сверстники учатся и строят БАМ. Кто опять слизнул все кисленькие батарейки? Если тебе скучно — никто тебя не держит!
Я обидел ее.
Она взглянула злобно, растерянно и беспомощно. Она передернулась форточкой и вылетела вон.
— Нагуляешься — фортка открыта!
Я подумал, что она без пальто, но потом понял, что это для нее не имеет значения.
Она не вернулась ни завтра, ни в среду.
Ее не было под кроватью, ее не было в саду за сараем, ее не было в канаве у шоссе, ее не было на кладбищенском пригорке. За пригорком ее тоже не было.
Я складывал ладони рупором, я звал ее: «О-ооо!»
Откликалось эхо, но это было не ее «о».
Иногда мне кажется, что я вижу ее взгляд в глубине темного зала, поэтому меня тянет выступать. Однажды в самолете я почувствовал тоску под ложечкой и понял, что она где-то рядом.
Потом я забыл о ней.
Осмотрим, что ли, мои дыры?
Мур спрыгивает с табурета. Вы пытаетесь поддержать его. Он увертывается и, легко опираясь на две палки, выпрыгивает на улицу, а там медленно подбирается по дорожке к машине. В его коренастой фигуре крепость и легкость, летучесть какая-то. Кажется, не будь он привязан к двум палкам, он улетел бы в небо, как кубический воздушный шар. Также привязан к воткнутой палке и не может улететь куст хризантем, обернутый от заморозков в целлофановый мешок.
Ветер, какой ветер сегодня! Он треплет его белесый хохолок, он вырывает мой скользкий шарф, и тот, как змея, завиваясь, уносится по дорожке и застревает в колючих кустах.
Ветер треплет прямую пегую стрижку Анн, племянницы Мура. Ветер струится в траве, дует, разделяя ее длинными серебряными дорожками. В образовавшихся полосках просвечивает почва, розоватая, как кожа. Ветер треплет и перебирает прядки, будто кто-то ищет блох в траве.
Мур садится за руль. Меня сажают рядом — для обзора.
Машина еле-еле трогается. Мы проезжаем по парку, по музею Мура. В мире нет подобных галерей. Его парк — анфилада из огромных полян, среди которых стоят, сидят, возлежат, парят, тоскуют скульптуры — его гигантские окаменевшие идеи. Зеленые залы образованы изумрудными английскими газонами, окаймленными вековыми купами, среди которых есть и березы.
— Скульптура должна жить в природе, — доносится глуховатый голос создателя, — сквозь нее должны пролетать птицы. Она должна менять освещение от облаков, от времени суток и года.
Машина еле-еле слышно, как сумерки, движется, кружит вокруг идей, вползает на газоны, оставляя закругленные серебряные колеи примятой травы, объезжает объемы. Как в замедленной кинохронике, открываются новые ракурсы.
— Объемы надо видеть в движении.
Он слегка то убыстряет, то замедляет ход. Кажется, он спокоен, но голос иногда хрипловато подрагивает, он всегда волнуется при встрече с созданиями. Его вещи нельзя смотреть в закупоренных комнатах, с одной точки обзора.
— Самая худшая площадка на воздухе, на воле лучше самого распрекрасного дворца-галереи. Вещь должна слиться с природой, стать ею. Вон той пятнадцать лет, — говорит он о скульптуре, как говорят о яблоне или корове.
В одну из скульптур ведет овечья тропа.
Это его «Овечий свод». Две мраморные формы нежно склонились одна над другой, ласкаясь, как мать с детенышем. Под образованный ими навес, мраморный свод нежности, любят забиваться овцы. Они почувствовали ласку форм и прячутся под ними от зноя и ненастья. Как надо чувствовать природу, чтобы тебя полюбили животные!
Черные свежие шарики овечьего помета синевато отливают, как маслины.
Среди лужайки полулежа хмуро замер гигант с необъятными плечами и бусинкой головы — Илья Муромец его владений.
Мастер любит травертинский камень. Этот материал крепок и имеет особую фактуру — он как бы изъеден короедами, поэтому скульптура вся дышит, живет, трепещет, будто толпы пунктирных муравьев снуют по поверхности. Скульптуры стоят, похожие на серо-белые гигантские муравейники.
Они стоят по колено в траве и вечности.
Сквозь овальные пустоты фигур, как в иллюминаторах, проплывают сменяющиеся пейзажи, облака, ветреные кроны.
Вот наконец знаменитые дыры Мура. Они стали основой его стиля и индивидуальности. Поздние осы вьются сквозь них. Люди смотрят мир сквозь них. Здесь каждый может подобрать себе по размеру печаль и судьбу. Надо знать только свою душевную диоптрию.
Читать дальше