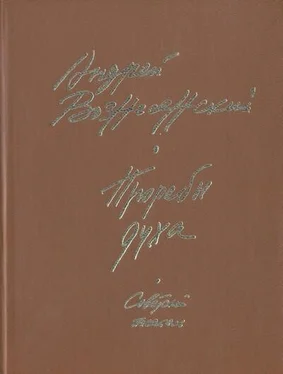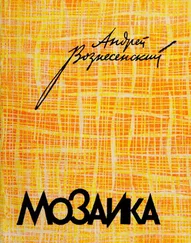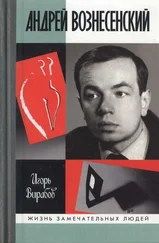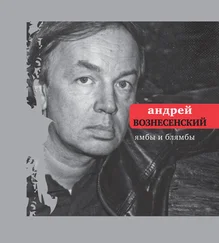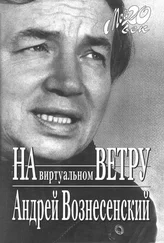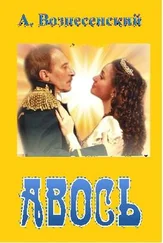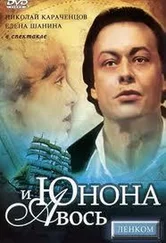Пресвятая профессура
исчезающей Москвы
нос от сбившейся цезуры
морщит, как от мошкары.
В этом схожесть с братством ложи
я до дрожи узнавал.
Боже,
как люблю я Малый зал!
Даже не консерваторская,
а молитвенная тишь…
В шелковой косовороточке
тайной свечкой ты стоишь.
Облак над Консерваторией
золотым пронзен лучом —
как видение Егория
не с копьем, но со смычком.
Я к вечеру шестого мая
в глухом кукушкином лесу
шел, просекою подымаясь,
к электротягам на весу.
Как вдруг, спланировав на провод,
вольна причиной неземной,
она, серебряная в профиль,
закуковала надо мной.
На расстоянье метров сорок,
капризница моих тревог,
вздымала ювелирно зорко
свой беззаботнейший зобок.
Судьбы прищепка бельевая,
она причиною годов
нечаянно повелевала.
От них качался проводок.
И я стоял, дурак счастливый,
под драгоценным эхом их.
Я был отсчитывать не в силах.
Неважно сколько — но каких!
Я думал, как они жемчужно
ниспосланы наверняка —
необъяснимая пичужка,
нежданные твои века!
Сестра, ты в «Лесном магазине»
выстояла изюбрину,
тиха, как в монастыре.
Любовницы становятся сестрами,
но сестры не бывают возлюбленными.
Жизнь мою опережает
лунная любовь к сестре.
Дело не во Фрейде или Данте.
Ради родителей, мужа, брата, etc,
забыла сероглазые свои таланты
преступная моя сестра.
Твой упрямый лобик написал бы Кранах,
только облачко укоризны
неуловимо для мастерства,
да и руки красные
от водопроводных кранов —
святая моя сестра!
Что за дальний свет состраданья,
обретая на срок земной
человеческие очертанья,
стал сестрой?..
Жила-была девочка.
Ее рост — на шкафу зарубками.
Кто сказал,
что не труженица лобастая стрекоза?
Маешься на две ставки,
стираешь, шьешь,
не воруешь,
бесстрашная моя сестра.
Для других ты — доктор. И когда уверенно
надеваешь с короткими рукавами халат —
будто напяливаешь
безголово-безрукую Венеру.
Я с ужасом замечаю,
что торс тебе тесноват…
Ссорясь с подругой и веком или сойдя с катушек,
когда я на острие —
скажу: «Поставь раскладушку» —
вздохнувшей моей сестре.
Сестра моя, как ты намучилась,
таща авоськи с морковью!..
Метромост над тобой грохочет
как чугунный топот Петра.
А рядом — за стенкой, за Истрою, за Москвою —
страна живет, как сестра.
Сестра твоя по страданию,
по божеству родства,
по терпеливой тайне —
бескрайняя твоя сестра…
Сестра моя, не заболела?
Сестра моя, поспала бы…
В зимние вечера
над шитьем сутулятся
две русых настольных лампы.
Одна из них — моя сестра.
Здесь князь пьянел от фортепьяно.
Поныне вспоминает сад
и замок в накладных румянах
его романа аромат.
Он пренебрег державным саном
во имя женщины простой.
Он рядом ей построил замок
над все смывающей Курой.
В халатах красных и ковровых
они прощались на заре.
И призрак сломанной короны
горел над ними на горе.
За это царь его чихвостил.
И останавливался бал.
И очарованный Чайковский
на подоконнике играл.
И попадаем мы невольно,
идя из дома во дворец,
в волшебно-силовое поле
меж красных каменных сердец.
Пред этой силою влюбленной,
что выше власти и молвы,
за неимением короны
снимаю кепку с головы.
Все на свете русские бревна,
что на избы венцовые шли,
были по три сажени —
ровно миллионная доля Земли.
Непонятно, чего это ради
мужик в Вологде и Твери
чуял сердцем мильонную радиуса
необъятно всеобщей Земли?
И кремлевский собор Благовещенья
и жемчужина на Нерли
сохраняли — мужчина и женщина —
две мильонные доли Земли.
И как брат их березовых родин,
гениален на тот же размер,
Парфенона дорический ордер
в высоту шесть саженей имел.
Научились бы, умиленно —
пасторальные кустари,
соразмерности с миллионной
человечески общей Земли!
Читать дальше