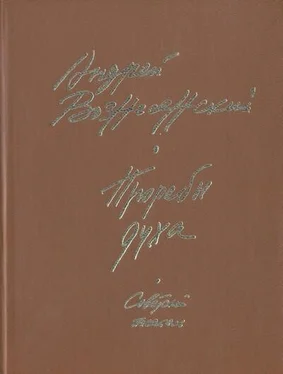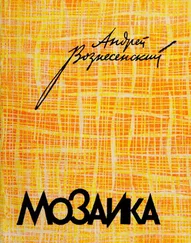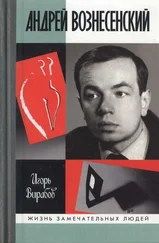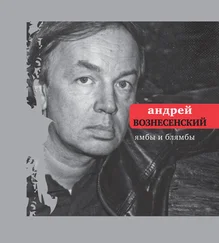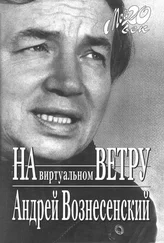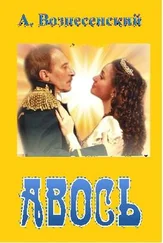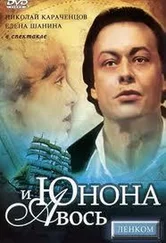Сердцевина книги, ее центр — два мощно сросшихся ствола, два рильковских реквиема, их разметавшиеся кроны и корни выходят за пределы книжного формата, лишь угадываются и шумят в иных измерениях. Наверно, и издавать их надо было отдельно, как берлинцы издают — долгим вертикальным форматом, как колодезная шахта.
Впрочем, и вся книга — в чем-то праздничный реквием по тому, что могло бы быть на месте этих переводов. Поразительно, сколько сотворил он: Шекспир, весь; «Фауст», любому бы хватило на жизнь — и сколько бы он создал, не занимаясь этим. Горестно, какой ценой, какой кровью давалось это донорство, писались эти строки. Строки этой книги бесценны — какой ценой они оплачены. Переводил других — себя, свой дар переводил. И какой дар!
Но вернемся к созданному. Сквозь решетку строчек видны лица и места пережитого и виденного.
Вот Венеция:
Как будто кот за мышкой малой
Бросается из темноты.
Над тихою водой канала
Подскакивают вверх мосты.
Сквозь рынки, готику, бородачей «Лютера» просвечивает Марбург.
Однажды мне довелось проникнуть в его кладовую, к истокам мастерства, в роддом его, что ли. Это был Марбург. Везти меня туда не хотели. Меня отговаривали. Мол, зачем давать крюка, не запланировано, завтра вечер в Ганновере. Я отмалчивался. Я-то знал, что, может, все эти запрограммированные телестудии, месячные вечера, пресса — были лишь даванием кругаля ради Марбурга, ради нескольких часов в нем. И даже встреча с Хайдеггером, часовые колдовские речи с ним о слове и сущности слова имели подсознательную параллельность с Когеном. Это был мостик туда. Сознание инстинктивно расставляло шахматную ситуацию, где марбургские колокольни, где ночи играть садятся в шахматы.
«Охранная грамота» была библией моего детства. Я страницами шпарил текст наизусть без передыха. В Марбург я ехал тайком, не оповестив никого, ехал соглядатаем, на цыпочках поглядеть, послушать.
Марбуржцы встретили на перроне, как снег на голову, без шпаг и самострелов, в лыжных нейлоновых молниях, с велосипедами, поволокли в «мерседес». Мимо окон удлинялись параллелепипеды новых зданий.
Марбург двухэтажен, как дом с каменным низом. Подножие — современные строения, новый университет. В нем мы. Дымом встает над ним старый город с когтистой готикой. Он будто горб на горе или, вернее, будто рюкзак, в котором угадывается и вот-вот выхлестнет скрытый пар парашюта. Он полон обычаев, обрядов, охранной грамоты.
До утра шел студенческий сыр-бор, как водится, с водкой, свечами, вакханалией, политическими спорами. Марбуржцы угощали меня пивом и записями Окуджавы. Ковер был мохнат, и на нем можно было валяться. Переводчик моей книги Саша Кемпфе, милый увалень, не выдержав режима, удалился спать.
Я ускользнул в старый город. Был рассвет. В уличном автомате за стеклом ждали пфеннигов сигареты и завернутые в целлофан живые тюльпаны. Я искал его адрес. Старый город был инсценировкой по «Охранной грамоте». Дома срепетированно повторяли позы и жестикуляцию текста. Я кивал, когда это им особенно удавалось. Вот здесь жил Мартин Лютер. Здесь — братья Гримм. Когтистые плиты. Мы думали, Пастернак фантаст, Клее, а он — нате вам! — скрупулезнейший документалист. Так же ошарашивают пейзажи Михайловского — сосны, дуб. Гении точны, как путеводители. И тот же дом, где он жил, — седой, аляповатый.
Дом напротив бензозаправки «ЭССО».
Фрау, отворившая дверь, конечно, знает о Пастернаке. Она новенькая и элегантная. Вот только в какой комнате — в этой, в той ли, — не знает. А в окнах стояли туманные матрицы текста. Алые бензоколонки, как бубновки и черви, были перетасованы с черной решеткой готики.
На поезд я, понятно, опоздал.
Владелец местной картинной галереи еле домчал нас на запыхавшемся «БМВ» к началу вечера в Ганновере.
Переводы Пастернака — это доминионы его державы. Это прочтение средневековья глотками актеров нашего века. Переводя Шекспира, он вдруг наталкивался на цитаты из Маяковского. Например, Ромео говорит там о любовной лодке, разбившейся о быт. Это не влияние, а совпадение судеб. Это заклепки, соединяющие времена, нации, судьбы. Иначе к чему бы читать все это, если все замкнуто исторически.
А какого он написал Гамлета!
Гул затих, я вышел на подмостки.
Прислонясь к дверному косяку,
Я ловлю в далеком отголоске,
Что случится на моем веку.
На меня наставлен сумрак ночи
Тысячью биноклей на оси.
Если только можно, авва отче,
Чашу эту мимо пронеси.
Я люблю твой замысел упрямый,
И играть согласен эту роль,
Но сейчас идет другая драма,
И на этот раз меня уволь…
Но продуман распорядок действий.
И неотвратим конец пути.
Я один, все тонет в фарисействе.
Жизнь прожить — не поле перейти.
Читать дальше