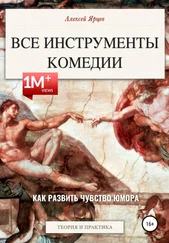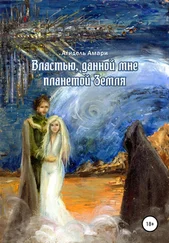Правда не совпадала ни с красивой легендой, ни с злобной клеветой. Может быть, и действительно в ее детских отношениях с молодым и милым Basil'eм было увлечение с ее стороны; может быть, его пришлось выдумать, чтобы этой трогательной историей добиться разрешения начальства и сделать этот брак приемлемым для жениха. Камилла отнюдь не была экзальтированной натурой. Это была просто милая, трезвая, неглупая девушка, настоящая благоразумная француженка. В поступке ее была доля разумного расчета. Она с одной стороны вступала и даже не как равная, а как благодетельница и добрая фея в богатую и аристократическую семью, которой она и ее мать были многим обязаны. Но в то же время она становилась женою ссыльно-каторжного, отправлялась в далекую, ужасную страну и, может быть, невозвратно, т. е. значит все же была в ее поступке доля самопожертвования. Но и в расчете не было ничего дурного, — мало ли кто выходит замуж без страстной любви. Наоборот, было в этом браке что-то жизненно простое, и не так, как в легенде, а попросту, по-житейскому, хорошее и трогательное (С. 328–329).
3. Возвращенье.С. 55–56. Впервые: Окно. 1923. № 2. С. 271–273 (пол названием «Из Сибири»). Басаргин возвращался из далекой Сибири — Николай Васильевич Басаргин (1800–1861), декабрист, поручик лейб-гвардии Егерского полка, мемуарист, публицист; вернулся из Сибири в 1855 г., после смерти Николая 1. Там в Иркутске лежит Трубецкая ~ испытанием боли — Жена С.П. Трубецкого Екатерина Ивановна (урожд. Лаваль), 1800–1854, последовала за своим мужем в сибирскую ссылку; умерла в Иркутске. Кюхельбекер, увы, не дождался славы ~ нелепый и узкий — В.К. Кюхельбекер умер 11 (23) августа 1846 г. в Тобольске, похоронен на Завальном кладбище. И на том же кладбище — покоится тоже — Фердинанд (Христиан-Фердинанд) Богданович Бернгардович) Вольф (1796? 17977-1854), декабрист, член Южного общества; штаб-лекарь при главной квартире 2-й армии. А Ивашевы, близкие сердцу, родные — мой Вася — См. коммент. к стих. «За роялем», «Вазиль», «Из дневника Камиллы»; В.И. Ивашева умер ровно через год после своей жены, которой не стало 30 декабря 1839 г.: незадолго до этого она сильно простудилась, у нее произошли преждевременные роды пи мать, ни ребенка спасти не удалось.
Ключ свободы.С. 57. «…Се sont mes amis du Quatorze!» — ‘Это мои друзья декабристы’ (досл.: «друзья 14 <���декабря >», франц.), ср. в «Декабристах»: «Почему не послушался он советов своих “друзей” декабристов, тех, которых он называл “mes amis du quatorze” — Рылеева, Каховского, Бестужева?» (С. 387). С etaient ses amis du Quatorze! — ‘Это были его <���народа> друзья — декабристы’ (досл.: «друзья 14 <���декабря >», франц.). Се seront ses amis du Quatorze! — ‘Это будут его друзья — декабристы’ (досл.: «друзья 14 <���декабря>», франц.).
Малый дар
Книга стихов «Малый дар», которую Цетлин собрал в основном из своих прежних стихов и которая поэтому мыслилась как книга «Избранной лирики», отражающая творческий путь поэта, издана при его жизни не была и осталась в рукописи. Многие годы эта рукопись хранилась у дочери поэта А. Цетлин-Доминик, пока наконец в 1993 г. московское издательстве «Праминко» не выпустило ее в свет. В кратком предисловии к этому изданию А. Цетлин-Доминик вспоминала, что после бегства из Парижа от оккупировавших его немцев и живя на юге Франции, она в феврале 1941 г.
получила от отца по почте тетрадь с его стихами. Этот сборник он составил и отпечатал сам, а моя мать исправила отпечатки. Посылая свои стихи, мой отец надеялся, что в будущем я смогу их издать. В конце тетради он сделал приписку о том, что к стихам, отпечатанным в тетради, ему хотелось добавить стихи, посвященные декабристам, и переводы.
Я не расставалась с этой тетрадью, — продолжает она, — ни во время войны, ни после, хотя мне приходилось очень часто менять место жительства. С отцом я больше не увиделась. Он умер в Нью-Йорке 10 ноября, и только сейчас, в 1993 году, у меня появилась возможность издать в Москве стихи Амари [143] Амари (М. Цетлин). Малый дар. М.: Праминко, 1993. С. 5.
.
«Малый дар» представляет собой не только своего рода итоговую книгу, куда поэт отобрал и включил наиболее удавшиеся, на его взгляд, тексты из предыдущих сборников. Поскольку последний из них, «Прозрачные тени», вышел в 1920 г., ряд вошедших в «Малый дар» стихотворений известен только по публикациям в труднодоступных эмигрантских периодических изданиях, а некоторые из них вообще никогда не печатались. Поэтому последняя книга Амари-Цетлина является не только изданием избранным, но и расширенным по составу по сравнению со всеми предыдущими. Кроме того, в «Малом даре» ощущается воля автора к усовершенствованию старых стихотворений как за счет шлифовки поэтической стилистики и придания ей большей выразительности, так и путем нового структурирования уже известного поэтического материала (например, объединение четырех стихотворений, включенных в «Прозрачные тени» и связанных общей темой возвращения автора в Россию после Февральской революции — «Не все ли равно мне, где жить и томиться…», «И вот опять, и вот опять мы здесь, в Москве, с тобой…», «Я вижу твое искаженное страстью лицо…» и «Не в светлый год, а в скорбный год…» — в единый цикл «Возвращение» или еще более выразительный случай: появление цикла «Путевые акварели», собранного как из стихов, помещенных в разных сборниках, так и из новых, специально, как видно, для него написанных).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
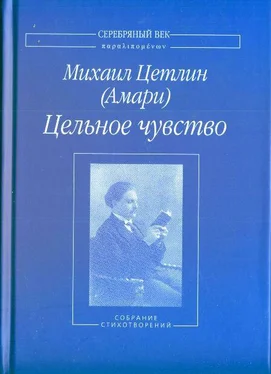
![Джейн Остен - Чувство и чувствительность [Разум и чувство]](/books/5945/dzhejn-osten-chuvstvo-i-chuvstvitelnost-razum-i-chu-thumb.webp)

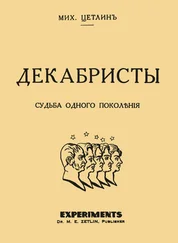
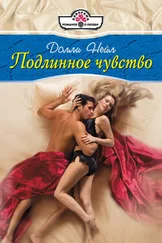
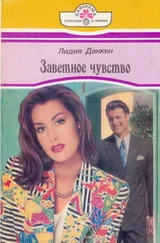
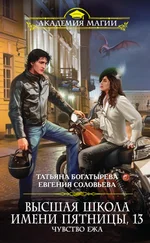
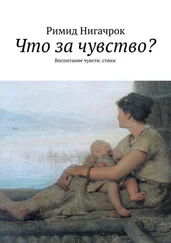

![Агидель Амари - Властью, данной мне планетой Земля [publisher - SelfPub]](/books/397511/agidel-amari-vlastyu-dannoj-mne-planetoj-zemlya-thumb.webp)