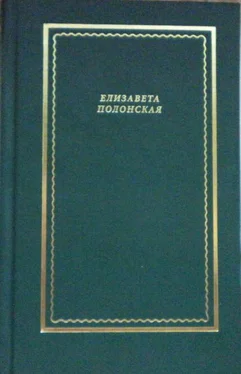О том, что стихи Полонской о современности «настораживали», Адамович сказал точно. Насторожиться, правда, было от чего:
Не стало нежности живой,
И слезы навсегда иссякли.
Только одно: кричи и вой!
Пылайте, словеса из пакли!
Пока не покосится рот
И кожа на губах не треснет,
И кровь соленая пойдет,
Мешаясь с безобразной песней!
(«Не стало нежности живой…»)
В 1922-м Полонская послала свою первую книгу стихов Троцкому. Создатель Красной армии прочел ее внимательно и, похоже, оценил (об этом говорит хотя бы такой пассаж в его статье «Партийная политика в искусстве»: «Мы очень хорошо знаем политическую ограниченность, неустойчивость, ненадежность попутчиков. Но если мы выкинем Пильняка с его “Голым годом”, серапионов с Всеволодом Ивановым, Тихоновым и Полонской, Маяковского и Есенина, так что же, собственно, останется, кроме еще неоплаченных векселей под будущую пролетарскую литературу?» [30] Л. Троцкий. Литература и революция. М., 1991. С. 169–170.
). Наверное, более эффектной была бы ссылка на текст письма председателя Реввоенсовета Республики, доставленного фельдъегерской почтой Полонской на дом, но, увы, письмо это в красном запечатанном сургучом пакете было уничтожено уже в начале 1970-х, и текст его остается неизвестным. Пылкая Мариэтта Шагинян в письмах к Полонской наставительно требовала в 1921 году: «Пиши поэму о Троцком!» А Полонская в те дни записывала в дневнике: «Почему я не коммунистка? Две причины, обе — психологические. 1) Я не испытываю активной любви к людям. Я ощущаю их как трагический материал. 2) Мне претит комлицемерие» [31] Текст записи из рабочих тетрадей Полонской того времени и письмо М.С. Шагинян предоставлены покойным М.Л. Полонским.
.
Полонская понимала Революцию как явление Природы, и потому принимала ее. Отношение к новой власти было иным. Впрочем, эта власть за 10–12 лет своего существования идеологически и аппаратно круто переменилась, постепенно подчиняя себе все сферы деятельности граждан. Требования ортодоксальной критики к отражению «революционной действительности» в советской поэзии тоже переменились, и в 1935 году рядовой совкритик не имел возможности писать про то, о чем говорили Ин. Оксенов и Б. Эйхенбаум в 1921-м, да, пожалуй, уже и чувствовал иначе, и видел нечто иное: «В первой книге “Знаменья” Е. Полонскую очень многое роднит с лирикой “Цеха поэтов”, отражающей в своей примитивной вещности стремление замкнуться в четырех стенах комнаты» [32] М. Гутнер. Годы поэта // Литературный Ленинград. 1935. № 26. 8 июня.
. Предвидеть эти перемены Полонская не могла, но еще в 1920-м со многим прощалась:
Но грустно мне, что мы утратим цену
Друзьям смиренным, преданным, безгласным:
Березовым поленьям, горсти соли,
Кувшину с молоком, и небогатым
Плодам земли, убогой и суровой… [33] Может быть, эти стихи имел в виду Вл. Пяст, когда писал об искренности Полонской, за которую ей можно простить все в ее книге (см.: Вл. Пяст. Два ожерелья // Жизнь искусства. 1921. 27 сентября).
(«Не странно ли, что мы забудем всё…»)
В стихах Полонской был дух того времени, который она для нас сохранила, и были, понятно, свои темы. Писала она и на библейские, соотнося происходящее в стране с древностью; используя классические образы, она умела сказать о том, что было ею пережито:
Мы знаем точный вес, мы твердо помним счет;
Мы научаемся, когда нас научают.
Когда вы бьете нас, кровь разве не идет?
И разве мы не мстим, когда нас оскорбляют?
(«Шейлок»)
Такие стихи из «Знамений», как «Я не могу терпеть младенца Иисуса…» и «Шейлок», вызвали споры. Ин. Оксенов, признав в цитированной статье что «во всей лирике Елизаветы Полонской глухо и настойчиво звучит “голос родовой”», посчитал, что «оценка этих стихов неминуемо должна лежать в области вне-эстетической, — и мы должны сказать, что в книжке, изумительно и трепетно-современной, стихи эти звучат резким диссонансом — быть может, величавая нота, идущая из глубины времен, но суждено этой ноте неизбежно замолкнуть, ибо общение людей строится ныне не на кровной связи». И в характерноутопической манере эпохи заявил, что голос рода, звучавший прежде, замолк, «ибо не должен он звучать в том мире, к которому мы идем». Суждения на эту тему берлинского критика А. Бахраха, признавшего, что «маленькой, но полновесной книжкой “знамений” обрела Полонская свое лицо» [34] Дни (Берлин). 1923. 11 февраля. С. 14.
, — столь невнятны, что, похоже, его рукой водили некие внутренние комплексы: «В книге есть еще нечто. Это стихи с определенной идеологией. В них много настоящего экстатического пафоса, много подлинной боли, выстраданности, но в сборнике они явно лишние, ибо могут повернуть всю книгу в совершенно иную плоскость. Это ни к чему. Пропустим их, не делая никаких выводов, и не будем искать каких бы то ни было догматических правд. Тяжесть вне их» [35] Там же. Отмечу, что, посылая 20 февраля 1923 г. Полонской рецензию Бахраха, живший тогда в Берлине И. Эренбург написал явно смущенно: «Я дал одному современному юноше твою книгу, и вот что из этого вышло» (И Эренбург. Дай оглянуться… Письма 1908–1930, М., 2004. С. 258).
.
Читать дальше