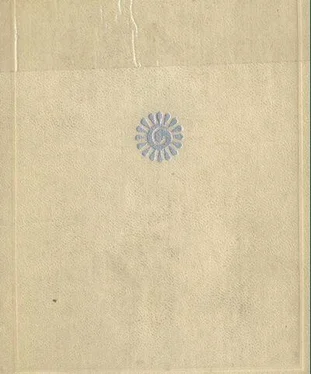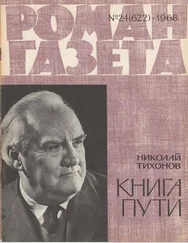«Разве жить без русского простора…»
Разве жить без русского простора
Небу с позолоченной резьбой?
Надо мной, как над студеным бором,
Птичий трепет — облаков прибой.
И лежит в руках моих суглинок
Изначальный, необманный знак —
У колодцев, теплых стен овина
Просит счастья полевой батрак.
Выпашет он легшие на роздых
Из земной спокойной черноты,
Жестяные, согнутые звезды,
Темные иконы и кресты.
Зыбь бежала, пала, онемела,
А душа взыграла о другом,
И гайтан на шее загорелой
Перехвачен песенным узлом.
Земляной, последней, неминучей
Послужу я силе круговой —
Где ж греметь и сталкиваться тучам,
Если не над нашей головой?
«Я одержимый дикарь, я гол…»
Я одержимый дикарь, я гол.
Скалой меловою блестит балкон.
К Тучкову мосту шхуну привел
Седой чудак Стивенсон.
И лет ему нынче двадцать пять,
Он новый придумал рассказ —
Ночь отменена, и Земля опять
Ясна, как морской приказ.
Пуля дум-дум, стрела, динамит
Ловили душу мою в боях,
И смеялась она, а сегодня дрожит
Болью о кораблях.
Но я такой — не молод, не сед,—
И шхуне, что в душу вросла,
Я не могу прочертить ответ
Соленым концом весла.
Пусть уходит в моря, в золото, в лак
Вонзать в китов острогу,
Я сердце свое, как боксер — кулак,
Для боя в степях берегу.
Кустарник стоял. Поредели сосны.
На неожиданном краю земли
Лежала лодка в золотых осколках
Последнего разбившегося солнца.
Ни голоса, ни следа, ни тропы —
Кривая лодка и блестевший лед.
Как будто небо под ноги легло,
Лед звал вперед, сиял и улыбался
Большими белыми глазами — лед!
Он легким был, он крепким был, как мы,
И мы пошли, и мы ушли б, но лодка —
Она лежала строго на боку,
Вечерние погнувшиеся доски
Нам говорили: «Здесь конец земли».
За черным мысом вспыхнуло сиянье,
И золото в свинец перелилось.
Ты написала на холодной льдине —
Не помню я, и лед и небеса
Не помнят тоже, что ты написала,—
Теперь та льдина в море, далеко
Плывет и дышит глубоко и тихо,
Как этот вечер в золотых осколках
Плывет в груди…
Вперебежку, вприпрыжку, по перекрытым
Проходам рынка, хромая влет
Стеной, бульваром, газетой рваной,
Еще не дочитанной, не дораскрытой,
Вчера родилась — сейчас умрет,
Над старой стеною часы проверив,
У моря отрезал углы, как раз —
Ты помнишь ветер над зимним рассветом,
Что прыгал, что все перепутывал сети,
Что выкуп просил за себя и за нас.
Сегодня он тот же в трубе и, редея,
Рассыпался в цепь, как стрелки, холодея,
И, грудью ударив, растаял, как залп,
Но что б он сказал, залетев в наши стены,
Мы квиты с ним, правда, но что б он сказал?
Над сонной прихотью семян,
В сердца заброшенных привычкой,
Встает обширная семья
Тревог живых, огней и кличей.
Сквозь ветхой ночи ледоход,
Сквозь пену будней проступила,
Во множестве имен растет
Ее связующая сила.
И в урожайном жите сел,
И в колуна кривой насечке,
Она, где в волны кинут мол
И волноломами иссечен.
Впивая пульсы птичьих горл,
Над цветником колдует пулей,
Так город ритмом камня горд,
Горд месяц облаком в июле.
И чтоб никто не избежал,
Не медью — нет, не мерой метит,
Но в щеки, в травы льется жар,
В ручьи, как в руки, входит ветер.
И чтоб никто ни перед кем
Не утаил, не прожил розно,
Секундомер в ее руке
Как прорезь жил в листе березном.
На дне корзины, выстеленной мохом,
Не так яснеет щучья чешуя,
Как озеро, серебряным горохом
Вскипающее рьяно по краям.
Иду за ним. Подъем оброс
Лесной глухой породой,
Поверх подъема лег погост —
Карелов мертвых отдых.
Выходит пастор — углублен и сух,
Выносит гроб, по вереску шурша,
Морщинятся высокие старухи,
Слезая с таратаек не спеша.
Ну разве так работника хоронят,
Под шамканье, под ветхие слова?
Зарытая в молитвенной попоне,
Старушечья мерцает голова.
Я ухожу. Мне не по нраву это,
Трущоба крика просит,
Я не хочу прослыть немым
Над озером, перед толпою сосен,
Вздымающих зеленые умы.
Читать дальше