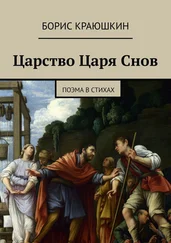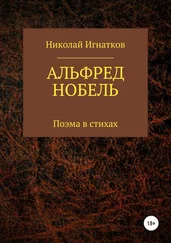Молилась на коленях мать,
Поднявши к небу взгляд:
"Пусть ту, что рядом здесь со мной,
Иссушит тайный яд!
Услышь, услышь меня, господь.
Мои держащий дни:
Ту, что причастна к их любви
Навеки прокляни!
Будь проклят день ее и ночь
На вечные года!"
Так помолившись, поднялась,
Спокойна и тверда,
И вышла в дверь, господень дом
Покинув навсегда.
Я видел Эллен. Как она
Вся побледнела вдруг!
Я думал, почему у ней
В глазах такой испуг?
И после службы близ нее
Мы все собрались в круг;
Она шаталась, и блуждал
В ее глазах испуг.
Потом решилась рассказать,
Чем сердце смущено:
"Ведь это клятва грешных уст,
Не все ли мне равно?"
И улыбнулась, и принять
Старалась бодрый вид,
Но лучше, если бы она
Заплакала навзрыд.
Она твердила, боль в душе
Пытаясь побороть:
"Ведь это клятва грешных уст,
И милостив господь!" — —
В ее глазах блуждал испуг,
В душе была борьба:
"Ведь это клятва грешных уст,
Ужель я так слаба?"
Бедняжка — девочкой, она
У ног моих играла —
От Мери утаила все,
Ни слова не сказала.
Но Мери слышала рассказ;
И Эллен обняла:
"О, Эллен, нас теперь она
Обеих прокляла!" — —
Наружи Эдвард под холмом
Шагал вперед, назад,
Ломая сучья у дерев
И прутья вдоль оград.
Он их разламывал в руках
И в сторону швырял,
Как будто бешенство свое
Куда девать не знал.
Вы виднте тот холм? Под ним
Их ферма и теперь.
Он слышал их, он слышал все
И скрежетал, как зверь.
С ним Эллен в горе с детских лет
И в радости сжилась,
И с нежным именем жены
Он имя друга дней весны
Соединял, молясь.
И он в часы своих молитв
К ним не делил любви,
И двух имен единый звон
Звучал в его крови!
Он в дом вошел; в его глазах
Была борьба видна;
И обе обняли его,
И Эллен и жена.
Он Мери плачущей лицо
К своей груди прижал;
Тут ярость перешла в тоску,
И Эдвард зарыдал.
А Эллен лить не стала слез,
Лишь обняла тесней,
Как будто что-то пронеслось
Ужасное пред ней.
Нехорошо, когда ногой
Могильный топчут прах;
Оно и днем зловещий знак,
И не к добру впотьмах.
Могилу видите, вон ту?
Бог даст, бог и возьмет:
Там, сударь, спит мое дитя,
Холодное, как лед.
Все остальные сам я рыл,
И — прах меня бери! —
Я лучше пропляшу на всех,
Чем трону эти три!
"Старик, невесел твой рассказ!" — —
"Вы — что, вы — молодежь;
Мне семьдесят, а ведь и то,
Как вспомнишь, так всплакнешь.
Сестрица Мери этот мне
Поведала рассказ,
Хоть Эдвард сам мне кое-что
Говаривал подчас.
Ну, ладно! Мери, как сестре,
Друг Эллен помогала;
Она была все чаще с ней,
И ей все делалась милей;
Она весь дом держала.
Она по будням на базар,
А в праздник — в церковь шла;
Все как всегда, но это все
Лишь видимость была.
Грустила Эллен? Не скажу.
Но веселилась мало;
И Эдварда она своей
Веселостью пугала.
Она молчала по часам;
Чтоб избежать тоски,
Она певала про себя
Веселые стишки.
И слышалось в ее простых,
Уверенных словах,
Что у нее своя печаль,
Свой неотступный страх.
Вдруг скажет, кисть обняв свою:
"Нет, мне не исхудать!"
Раз Мери за руку взяла
(Взгрустнулось той опять),
В лицо взглянула и слегка
Ей стала руку жать.
Потом сильней, сильней, вцепясь
С какой-то дикой, страстью,
И закричала: "Нет, нельзя
Себя принудить к счастью!"
Раз Мери обняла она
В самозабвенный миг,
И билось сердце, и слова
Шли сами на язык.
Они шли сами, как поток,
Что выступил из ложа,
И, взвизгнув, крикнула она:
"Как ты на мать похожа!"
Так понемногу стал весь дом
С уныньем неразлучен;
И, видя как грустит, жена,
Был Эдвард хмур и скучен.
Он с неохотой ввечеру
Отодвигай засов;
Ему как будто стал чужим
Любимый прежде кров.
Раз вечером он книгу взял,
Не стал в нее смотреть,
Швырнул ее и простонал:
"Нет, лучше умереть!"
Взглянула Мери на него
С улыбкой неживой
И молча на руку к нему
Склонилась головой.
Читать дальше