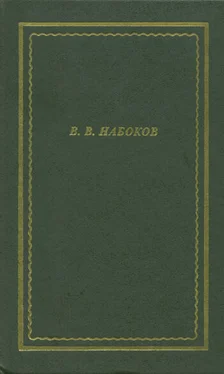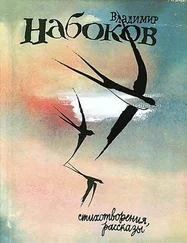И нехотя очнулся я, и голос
поскрипывал, прилежно рассуждая
о стройности дорических колонн
и о былых властительных богинях.
Что мне до них? Я видел сон иной.
День увядал. Внизу горели окна.
На запад шли оранжевые тучи.
«Благодарю», — промолвил я поспешно,
и на ладонь услужливого грека
упало несколько монет дырявых.
Так — за мечту платил я серебром…
<���Май 1919>; Афины
Ты много странствовал. Рассказ холодный твой
я ныне слушаю не с завистью живой,
а с чувством сложного, глухого сожаленья.
Мне горько за тебя. Скитался долго ты;
везде вокруг себя единой красоты
разнообразные ты видел проявленья,
и многих городов в записках путевых
тобой приведены звенящие названья.
Но ты не испытал тоски очарованья.
На желтом мраморе святилищ вековых,
на крыльях пестрых птиц, роскошных насекомых
узор ты примечал, не чуя Божества;
стыдливой музыке наречий незнакомых
с улыбкой ты внимал, а выучил слова
приветствий утренних, вечерних пожеланий;
в пустынях, в городах, иль ночью на поляне,
сияющей в лесу, как озеро, — о нет! —
не содрогался ты, внезапно потрясенный
сознаньем бытия… И через много лет
ты возвращаешься, — но смотришь изумленно,
когда я говорю, что сладостно потом
о странствиях мечтать, о прошлом золотом, —
и вдруг припоминать, в тревоге, в умиленье
мучительном, — не то, что знать бы всякий мог,
а мелочь дивную, оттенок, миг, намек, —
звезду над деревом да песню в отдаленье.
<���Май 1921>
151. «Над землею стоит голубеющий пар…»
Над землею стоит голубеющий пар.
Почки лип озарили аллею;
и с нелепою песенкой первый комар
мне щекочет настойчиво шею…
И тоску по иной, сочно-черной весне —
вдохновенное воспоминанье, —
ах, какую тоску! — пробуждает во мне
комариное это жужжанье…
Я видел, за тобой шел юноша, похожий
на многих; знал я всё: походку, трубку, смех.
Да и таких, как ты, немало ведь, — и что же,
люблю по-разному их всех.
Вы проходили там, где дружественно-рьяно
играли мы, кружась под зимней синевой.
Отрадная игра! Широкая поляна;
пестрят рубашки; мяч живой
то мечется в ногах, как молния кривая,
то — выстрела звучней — взвивается, и вот
подпрыгиваю я, с размаху прерывая
его стремительный полет.
Увидя мой удар уверенно-умелый,
спросила ты, следя вращающийся мяч:
знаком ли он тебе — вон тот в фуфайке белой,
худой, лохматый, как скрипач.
Твой спутник отвечал, что, кажется, я родом
из дикой той страны, где каплет кровь на снег,
и, трубку пососав, заметил мимоходом,
что я — приятный человек.
И дальше вы пошли. Туманясь, удалился
твой голос солнечный. Я видел, как твой друг
последовал, дымя, потом остановился
и трубку стукнул о каблук.
А там всё прыгал мяч, и ведать не могли вы,
что вот один из тех беспечных игроков,
в молчанье, по ночам, творит, неторопливый,
созвучья для иных веков.
26 февраля 1920; Кембридж
153. «Безвозвратная, вечно-родная…» {*}
Безвозвратная, вечно-родная, —
эти слезы, чуть слышно звенящие,
проливал я, тебя вспоминая!
Поглядел я на звезды, горящие,
как высокие, скорбные мысли,
и лучи удлинились колючие,
ослепили меня, и повисли
на ресницах жемчужины жгучие.
О, стекайте по тайным морщинам,
слезы яркие, слезы тяжелые!
Над минувшим, над счастьем единым —
разгорайтесь, лучи невеселые…
Всё ушло, все дороги смешались,
разлюбил я напевы искусные…
Только звезды у сердца остались,
только звезды большие и грустные…
<27 марта 1921>
Искусственное тел передвиженье —
вот разума древнейшая любовь,
и в этом жадно ищет отраженья
под кожею кружащаяся кровь.
Чу! По мосту над бешеною бездной
чудовище с зарницей на хребте
как бы грозой неистово-железной
проносится в гремящей темноте.
И, чуя, как добычу, берег дальний, —
стоокие, — по морокам морей
плывут и плещут музыкою бальной
чертоги исполинских кораблей.
Наклон, оправданное вычисленье,
да четкий, повторяющийся взрыв —
и вот оно, Дедала сновиденье,
взлетает, крылья струнные раскрыв.
Читать дальше