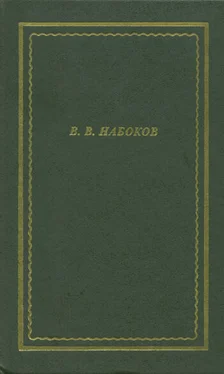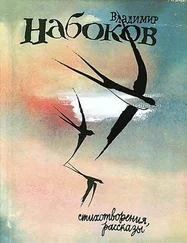Вот уж кому не до скуки! Для Сирина жизнь — «сновиденье, единый раз дарованное нам», на которое пенять, которое бранить могут только «выспренние глупцы». Зрячесть и зоркость — вот предпосылки сиринского поэтического мироотношения. <���…> Поэт, прежде всего, видит мир и видение свое воплощает в неповторимых вещественных, полновесных образах. <���…> Поражает необыкновенное разнообразие творческого облика Сирина, необыкновенная уверенность, легкая и смелая свобода, с которой он подходит к любой теме и заставляет слушаться себя любой материал. Это то же свойство, которое отличает его как прозаика и безошибочно обличает в нем большого писателя.
(Струве Г. Заметки о стихах. Парижские «Молодые поэты». — Евгений Шах. — Ал. Холчев. — В. Сирин // Россия и славянство. 1930. № 68, 16 марта)
Позже он определил место сборника в поэтической эволюции Набокова:
В <���…> тщательно отобранных стихотворениях, вошедших в «Возвращение Чорба» <���…> срывов вкуса уже почти нет, стих стал строже и суше, появилась некоторая тематическая близость к Ходасевичу <���…>, исчезли реминисценции из Блока, явно бывшие чисто внешними, подражательными, утратилось у читателя и впечатление родства с Фетом, которое давали более ранние стихи Набокова (сходство и тут было чисто внешнее, фетовской музыки в стихах Набокова не было, он был всегда поэтом пластического, а не песенного склада). <���…> Стихи «Возвращения Чорба» в большинстве прекрасные образчики русского парнассизма; они прекрасно иллюстрируют одно из отличительных свойств Набокова как писателя, сказавшееся так ярко в его прозе: необыкновенную остроту видения мира в сочетании с умением найти зрительным впечатлениям максимально адекватное выражение в слове.
(Русская литература в изгнании. С. 170)
Руль. 1928. № 2293, 14 июня — Р&Р — Стихи 1979.
Руль. 1926. № 1676, 10 июня. — Р&Р. Автограф — в письме жене, В. Е. Набоковой, в Sanatorium St. Blaisen от 7 июня 1926 г. с подробным описанием процесса сочинения этого ст-ния:
…вчера около девяти я вышел пройтись, чувствуя во всем теле то грозовое напряженье, которое является предвестником стихов. Вернувшись в десять домой, я как бы уполз в себя, пошарил, помучился и вылез ни с чем. Я потужил, и вдруг промелькнул образ — комнатка в тулонской плохонькой гостинице, бархатно-черная глубина окна, открытого в ночь, и где-то далеко за темнотой — шипенье моря, словно кто-то медленно втягивает и выпускает воздух сквозь зубы. Одновременно я вспомнил дождь, что недавно вечером так хорошо шелестел во дворе, пока я тебе писал. Я почувствовал, что будут стихи о тихом шуме, — но тут у меня голова затуманилась усталостью, и чтобы заснуть я стал думать о теннисе, представлять себе, что играю. Погодя, я опять зажег свет, прошлепал в клозетик. Там вода долго хлюпает и свиристит после того, как потянешь. И вот, вернувшись в постель, под этот тихий шум в трубе — сопровождаемый воспоминаньем — ощущеньем черного окна в Тулоне и недавнего дождя, я сочинил две строфы в прилагаемом стихотворении, — вторую и третью: — первая из них выкарабкалась почти сразу, целиком, — вторую я теребил дольше, несколько раз оставляя ее, чтобы подравнять уголки или подумать об еще неизвестных, но ощутимых остальных строфах. Сочинив эти вторую и третью, я успокоился и заснул — а утром, когда проснулся, почувствовал, что доволен ими, — и сразу принялся сочинять дальше. Когда в половину первого я направился к Каплан (мадам) на урок, то четвертая, шестая и отчасти седьмая были готовы, — и в этом месте я ощутил то удивительное, необъяснимое, что, может быть, приятнее всего во время творчества, а именно — точную меру стихотворения, сколько в нем будет всего строф; я знал теперь — хотя может быть, за мгновенье до того не знал, — что этих строф будет восемь и что в последней будет другое расположение рифм. Я сочинял на улице и потом за обедом <���…> и после обеда, до того, как поехал к Заку (Александр Зак, ученик Набокова. — M. М. ) (в три часа). Шел дождь <���…> и в трамвае сочинил стихотворенье до конца в такой последовательности: восьмая, пятая, первая. Первую я докончил в ту минуту, как открывал калитку. С Шурой играл в мяч, потом читали Уэлльза под страшные раскаты грома: чудная разразилась гроза — словно в согласии с моим освобожденьем, — ибо потом, возвращаясь домой, глядя на сияющие лужи, покупая «Звено» и «Observer» на вокзале Шарлотенбурга, я чувствовал роскошную легкость…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу