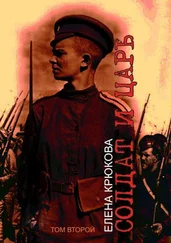И вот, не объем я хозяев. Я тощий кусок пожую.
А после – в сиянии зарев – вздымусь у стола на краю.
И все в лица сытые крикну. Убийц поименно зачту.
И Бога Единого кликну,
Пристывшего
Ко Кресту.
А коли и Он не услышит хрипенье Сошедшей-с-ума, –
Я руки вздыму еще выше,
Я Временем стану сама.
Черный город Вавилон. Крыши – костяные спицы.
Ало-розовый шифон Вавилонския Блудницы.
Золотой, кровавый шелк, зубы разноцветней бреда.
Зубы, мой великий волк. Я в ночи на Звере еду.
Серьги тяжкие в ушах: полумесяцами – злато.
Будто хамский падишах, в нищей я ночи богата.
Груди приподнимут газ легкий, ледяной, – поземка…
Я – не для ушей и глаз. Я – отчаянья поденка.
Зверя я из рук кормлю. Он живой же… есть же хочет…
Зверя – я одна люблю. Он мне плачет и хохочет.
Руку в яростную пасть я ему кладу – и плачу…
Как чудовищу пропасть без любви такой горячей?!..
И опять сажусь верхом на загривок. И накидка,
Черная, как грязи ком, золотой расшита ниткой.
И опять – в снега и грязь, в сырость, оттепель, огнища,
Над богатыми смеясь, подавая яшму нищим,
Вырывая из ушей золотые дольки, цацки,
И швыряя их взашей в гадкую толпу – по-царски, –
Изгаляясь и хрипя о любви – верхом на Звере,
Все страданья претерпя, все великия потери, –
О, такая – кто же я?!.. Кто же, кто же я такая?!..
А из церкви – Ектенья все поет, не умолкая:
Ты юродка, воробей, птаха-плаха, птенчик милый,
Приручительша зверей в боевом зверинце мира,
Просто с Города-Китай, просто нищенка с Таганки,
Просто выгнал тебя Рай с золотой своей гулянки.
***
Меня не оплачет никто.
Я же – оплачу всех.
Похитьте в дырах пальто.
Скрадите мышиный мех.
Укутает горла плач
парчовый простора плат.
Никто не придет назад.
Всех, сердце мое, оплачь.
Нас всех расстреляли. Хрипим, волчий хор.
Барсучее хорканье взорванных нор.
Нас – к стенке, изрытой кольем и дубьем;
Мочой да вином препоясан Содом.
Взашей нас – во мышьи, во песьи дворы.
Нам – за спину руки. Глядят две дыры.
Сургучное Царское слово – закон.
На крошево ситного – стая ворон
В сияющих сводах небесных хором.
К нам зычно воззвали, за что мы умрем:
Ублюдки, до скрута кишок изгалясь,
Плюя гнилью яда в подбрюшную грязь,
В лицо нам воткнули, как пики, грехи!
Железные крики! Раздули мехи
Кудлатого снега!.. залузганных щек…
И визг был последний:
– …прощает вам Бог!..
Мы сбились кучнее. Сцепились в комок.
Любви без границ не прощает нам Бог.
Добра не прощает. Сухого куска,
Святого в промасленной тайне платка.
И взора прямого. И гордой груди.
И скул, что до кости размыли дожди.
И крепкой хребтины: приказ – перебить
Лопатой. И грязную, нежную нить
Нательного крестика…
Песню – допел?!
Молчать! Морды – к стенке! Вот будет расстрел!
Расстрел всем расстрелам! Царь боен! Князь тьмы!
…И падали, падали, падали мы –
Простые! – живые! – в рубахах, в портах,
И наг яко благ, Божья сукровь во ртах,
И выхлесты ругани дикой, густой,
И срамный, лоскутьями, снег под пятой –
То красный, то синий, а то золотой –
Палач, плащаницей во гробе укрой… –
Крест-накрест, на друга простреленный друг,
Сцепляя кандальные высверки рук,
Спиленными бревнами, ствол на стволы,
Ложились,
орали,
вопили из мглы, –
А небо плыло, дорогой изумруд,
А небо кричало: – Стреляй!.. Все умрут!,. –
А снег утирал его – влет – рукавом,
Заляпанным салом, свечою, дерьмом,
Закапанным водкою, кровью, яйцом, –
Да как же прожить с этим Божьим лицом?!
Заплаканным вусмерть от тысяч смертей.
Захлестанным тьмою Пилатьих плетей.
Загаженном… – Бог, Ты исколот, распят.
Воззри, как рыдает последний солдат –
Малек лопоухий, он лыс и обрит,
Кулак в пасть втыкает, он плачет навзрыд,
Он небу хрипит: лучше б я расстрелял
Себя! Лучше б землю с подметками жрал!..
Убей меня, небо, небесным копьем!..
Нас всех расстреляли. НАС: С БОГОМ ВДВОЕМ.
Ой ты, буря-непогода – люта снежная тоска!..
Нету в белом поле брода. Плачет подо льдом река.
Ветры во поле скрестились, на прощанье обнялись.
Звезды с неба покатились. Распахнула крылья высь.
Читать дальше