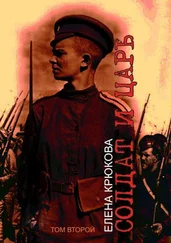Устав от всех газет, промасленных едою,
Запретной правоты, согласного вранья,
От старости, что, рот намазав, молодою
Прикинется, визжа: еще красотка – я!.. –
От ветра серого, что наземь валит тело,
От запаха беды, шибающего в нос, –
Душа спастись в лечебнице хотела!
Врачам – лечь под ноги, как пес!
Художник, век не кормленый, не спавший.
Малюющий кровавые холсты.
Живущий – или – без вести пропавший –
За лестничною клеткой черноты,
Все прячущий, что невозможно спрятать –
За печью – под кроватью – в кладовой –
Художник, так привыкший быть проклятым!
В больнице отдохни, пока живой.
И, слава Богу, здесь живые лица:
Пиши ее, что, вырвав из петли,
Не дав прощеным сном темно забыться,
В сыром такси сюда приволокли;
А вот, гляди, – небрит, страшнее зэка,
Округ горящих глаз – слепая синева, –
Хотел, чтоб приняли его за человека,
Да человечьи позабыл слова!
А этот? – Вобла, пистолет, мальчонка,
От внутривенного – дрожащий, как свеча,
Крича: "Отбили, гады, все печенки!.." –
И сестринского ищущий плеча, –
Гудящая, кипящая палата,
Палата номер шесть и номер пять!
Художник, вот – натура и расплата:
Не умереть. Не сдрейфить. Написать.
На плохо загрунтованном картоне.
На выцветшей казенной простыне.
Как в задыханье – при смерти – в погоне –
Покуда кисть не в кулаке – в огне!
И ты, отец мой, зубы сжав больные,
Писал их всех – святых и дорогих –
Пока всходили нимбы ледяные
У мокрых щек, у жарких лбов нагих!
И знал ты: эта казнь – летописанье –
Тебе в такое царствие дана,
Где Времени безумному названье
Даст только Вечность старая
одна.
А там? – Корява, как коряга, а профиль – траурный гранит,
Над сундуком горбатой скрягой Манита гневная сидит.
Манита, скольких ты манила! По флэтам, хазам, мастерским –
Была отверженная сила в тех, кто тобою был любим.
А ты? Летела плоть халата. Ветра грудей твоих текли.
Пила! Курила! А расплата – холсты длиною в пол-Земли.
На тех холстах ты бушевала ночною водкой синих глаз!
На тех холстах ты целовала лимон ладони – в первый раз…
На тех холстах ты умирала: разрежьте хлебный мой живот!
На тех холстах ты воскресала – волос гудящий самолет…
Художницей – худой доскою – на тех холстах бесилась ты
Кухонной, газовой тоскою, горелой коркой немоты!
Миры лепила мастихином, ножом вонючим сельдяным!
И, словно в малярии — хину, ты – кольцевой, овечий дым
Глотала!
Гордая Манита! Ты – страсть лакала из горла!
Ты – сумасшествию открыта ветра назад уже была.
Ты двери вышибала грудью, себя впечатывая в мир.
И ты в больницу вышла – в люди – в халате, полном ярких дыр.
И грозовая папироса, откуда конопляный дым,
Плывет, гудит, чадит без спросу над тициановым седым
Пучком…
А в гости к ней в палату приходит – заполночь всегда –
Художник, маленький, патлатый, такой заросший, что – беда.
О чем, безумные, болтают? О чем, счастливые, поют?
Как любят… Как тревожно знают, что за могилой узнают…
Манита и кудлатый Витя, два напроказивших мальца, –
Курите, милые, глядите в костер бессонного лица!
Тебя, художник, мордовали не до буранных лагерей –
Твои собратья убивали веселых Божьих Матерей.
Ты спирт ценил превыше жизни – за утешение его.
Венеру мастихином счистил – под корень так косарь – жнитво.
Нагая, плотная, живая – все запахи, весь снежный свет –
Она лежала, оживая! И вот ее навеки нет.
Зачем железному подряду ее трепещущая плоть
И скинутые прочь наряды, и локоть, теплый, как ломоть?!
И, Витька, сумасшедший, Витя, ее счищая и скребя,
Орал, рыдая:
– Нате, жрите! Вот так рисую я – себя.
И он, поджегши мастерскую у белой боли на краю,
Запомнил всю ее – нагую – Маниту – девочку свою.
…Это двое сильных.
Их сила друг в друге.
Они сидят на панцирной сетке,
сцепив пропахшие краской руки.
Они в два часа ночи
смеются и плачут,
Шлепают босиком на больничную кухню,
просят у пустоты чай горячий.
Они под утро – седые свечи –
Светят через молоко окна
далече, далече…
Вдохновимся ими.
Вдохнем безумные вьюги.
Мы живем в зимней стране.
Наша сила – друг в друге.
Читать дальше