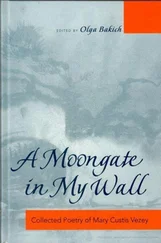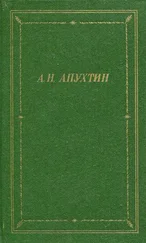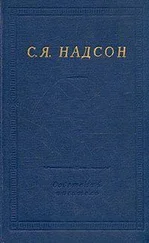35 Такая Византия! А мороз
62 Герои обступали всё тесней.
96 Вдруг острым носом целится в века.
после 104 Какою-то макакой, на лету
Халат прихватывая, уколов
Булавочками глаз; то в темноту
Несущийся болидом Хлестаков;
вместо 113–116 А там Петрушка, Селифан, – а там
Все те, что докучали столько лет,
Перекрутясь, подобно калачам,
Мчат сквозь трубу в трагическое нет.
И казачок, от страха, невпопад,
Вдруг разыкавшийся, пищит: «Боюсь!»
И всё сгорело. Дыма нет. Но чад
Окутывает всю ночную Русь.
после 124 И этот скитник, в гробной худобе,
Вдруг погрузившийся в столбнячный раж,
Прислушивающийся к своей судьбе, –
Совсем не Гоголь и уже не наш.
Из глаз сочится скопческая муть.
Он сжился с ними. Как же быть теперь?
В постах да в православьи потонуть?
А Пушкин вышел и захлопнул дверь…
Свеча. Сверчок. И длится-длится молчь.
И по лицу в глубокой желтизне
Вдруг проступает мертвенная ночь,
Расчеркиваясь носом по стене.
125–132 И в улицах, пока не рассвело, –
Во мгле помещичьих календарей, –
Опять летит седое помело
И от полупотухших фонарей,
Среди сугробов, – к будке, где блоху
Вылавливает алебардщик из
Оборчатой шинели на меху
Да слушает, как ветры разошлись.
– Ночи в лесу . С. 53–57; дата: 1933–1939.
С. 121. Дитя. Ровесники . 1932. [Кн.] 8. С. 264–268; приводим текст полностью:
Сегодня кухне – не к лицу названье:
в ней – праздничность, и словно к торжеству
начищен стол. Кувшин широкогорлый
клубит пары под самый потолок;
струятся стены чистою известкой
и обтекают ванну, что слепит
глаза зеленой краской, в чьей утробе
звенит вода. Хрустальные винты
воды из кувшина бегут по стенкам,
сливаются на дне, закипятясь, –
и вот уж ванна, как вулкан, дымится,
окутанная паром, желтизной
пронизанная полуваттной лампы.
И кухня ждет пришествия, когда
мать и отец, степенно и с сознаньем
всей важности, которую несут
с собой, тяжеловесными шагами
сосредоточенность нарушат кухни
и, колебая пар и свет, внесут
Дитя, завернутое в одеяло.
Покамест мрак бормочет за окном,
стучится веткой, каплями, покамест
дождь пришивает, как портной, трудясь,
лохмотья мглы к округлым веткам липы,
мелькая миллионом длинных игол,
их чернотой стальною, – мать берет
из рук отца ребенка и умело
развертывает одеяло, чтоб
освободить Дитя от всей одежды,
и вот усаживает его
на край стола, натертого до лоска,
и постепенно, вслед за одеялом
развязывает рубашонку, вслед
за рубашонкой – чепчик. Догола
Дитя раздето, ножками болтает,
их свесив со стола. А между тем
отец уж наливает из-под крана
воды холодной в ванну. Приподняв
ребенка, мать его сажает в воду,
нагретую до двадцати восьми.
Телесно-розоватый, пухлый, в складках
упругой кожи, в бархатном пушке, –
на взгляд, бескостный, – шумный и безбровый,
еще бесполый и почти немой, –
он произносит не слова, а звуки, –
барахтается ребенок в ванне
и громко ссорится с водой, когда
та забивается в открытый рот,
в глаза и уши. Волей иль неволей,
он запросто знакомится с водой.
Сначала – драка. Сжавши кулачки,
Дитя колотит воду, чтоб «бобо»
ей сделать, шлепает ее ручонкой,
но безуспешно. Ей – не больно, нет:
она все так же или горяча
иль холодна. И уж Дитя готово
бежать из ванны, делая толчок
неловкими ножонками, вопя,
захлебываясь плачем и водою.
То опуская, чтобы окунуть
ребенка с головою, то опять
приподнимая, мать стоит над ванной
с довольною улыбкой, и мел
ее платка закрашивает щеки,
широкое и белое лицо
с неразличимыми чертами. Так
она стоит безмолвно, только руки
мелькают словно крылья. Вся она –
в своих руках, округлых, добрых, теплых,
по локоть обнаженных. Пальцы рук
как бы ласкаются в прикосновеньях
к ребенку, к шелковистой коже. Вот
она берет резиновую губку,
оранжевое мыло и, пройдясь
намыленною губкой по затылку
Дитяти, по спине и по груди,
все покрывает розовое тело
клоками пены.
Тихое Дитя
в запенившейся, взмыленной воде
сидит по шею, круглой головой
высовываясь из воды, как в шапке
из белой пены. Как тепло ему!
Теперь вода с ним подружилась и
не кажется холодной иль горячей:
она как раз мягка, тепла. А мать
так ласково касается руками
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу