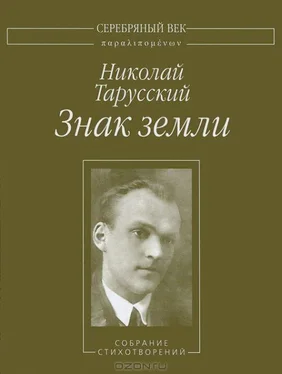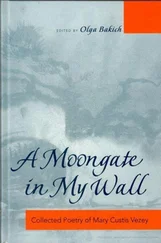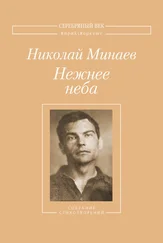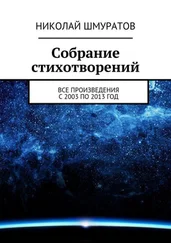Трудно предположить, что о поэте, писавшем и печатавшемся в 20-е – 40-е годы XX века, сохранилось столь мало сведений, но увы – это так. В позднем стихотворении «Из моей родословной» Тарусский, описав историю насильственного брака крепостной пермячки с казачком-калмыком, резюмирует: «Так восходит, цепкий и двукровный, / Из-за пермских сосен, прямиком, / Дуб моей жестокой родословной». Достоверные сведения есть о его отце, Алексее Николаевиче Боголюбове (1875–?), земском санитарном враче в Калуге [2] Российский медицинский список, изданный управлением главного врачебного инспектора Министерства Внутренних дел на 1912 год. СПб., 1912. С. 39. По всей вероятности, родители пережили сына; ср. в биографии филолога В. И. Фатющенко: «После войны старший брат Александр, герой Сталинграда, получил направление на работу в г. Тарусу Калужской области …. В Тарусе первые годы они жили в семье родителей поэта Николая Тарусского. В этом доме была замечательная библиотека, в том числе богатейшая коллекция поэтических сборников. Там и родилась главная Любовь его жизни: любовь к русской литературе, к русской поэзии, к России» (Тер-Минасова С. Г. Валентин Иванович Фатющенко // Маяковский продолжается: Сб. научных статей и публикаций архивных материалов. Вып. 2. М., 2009. С. 362).
и авторе нескольких статистических отчетов по вопросам народного здравоохранения [3] В частности: Материалы по санитарному состоянию земских и министерских начальных школ Калужского уезда. Очерк санит. врача А. Н. Боголюбова // Описание санитарного состояния земских и министерских школ Калужской губернии… Калуга, 1912. С. 1–41.
; мать известна только по имени: Елена Казимировна [4] ЦАМО. Ф. 33. Оп. 594258. Ед. хр. 33. Л. 192; цит. по электронной копии: http://www.obd-memorial.ru.
.
Детство Н. А. прошло в Тарусе:
В деревянном городке –
Запах яблонь, запах липы,
Целый день дверные скрипы,
Пестрый зяблик на сучке.
И малиновка, и славка –
Над садовою канавкой.
Над рекою гул и гам,
Плеск и крики, плеск и крики.
Хлещет солнцем по ногам,
Бьет дыханием клубники.
Окончив гимназию, он учится на врача; единственный обнаруженный мною след его медицинской карьеры – две брошюры незамысловатых практических советов, выпущенные им под собственной фамилией [5] Боголюбов Н. А. Первая помощь в несчастных случаях. М.–Л., 1926; Боголюбов Н. А. Как ухаживать за больными в крестьянской семье. М.–Л., 1927
. Судя по всему, участвует в Гражданской войне: в стихотворении он упоминает, что «шел на Чонгар», подразумевая, вероятно, штурм Перекопа, т. е. Перекопско-Чонгарскую операцию. В начале 1920-х Тарусский недолго живет в Москве (позже обмолвится в стихотворении: «Я живал когда-то на Арбате, / Но не помню, как я жил тогда»), но достоверно известен лишь один факт из его тогдашней биографии: в 1924 году он примыкает к свежеобразованной литературной группе «Перевал».
«На перевальских собраниях Тарусский бывал редко. В содружестве ближе всего он сошелся с Николаем Николаевичем Зарудиным» [6] Глинка Г. Погаснет жизнь, но я останусь: Собр. соч. Томск – М., 2005. С. 310.
, – вспоминал один из его московских знакомых. Последний факт неудивителен: оба охотники, натуралисты (в широком смысле слова) со сходной тягой к путешествиям. Эта склонность вскоре дает о себе знать: между серединой 1920-х и началом 1930-х гг. наш герой, судя по немногочисленным свидетельствам, предпринимает несколько долгих поездок по стране: «…Был учителем, чернорабочим, / Был косцом, бродягой, рыбаком». Около 1926 года он поселяется в Великом Устюге, где участвует в работе литературного объединения «Северный перевал» [7] «В 1925 году в городе создалась литературная группа “Северный перевал”, куда, кроме уже названных В. Веселкова, П. Вячеславова, П. Палемского, входили Н. Тарусский и Н. Молоков» (Пудожгорский В. 100 литературных мест Вологодской области. Вологда, 1992. С. 6).
. Под этой издательской маркой в 1927 году выходит его первая книга «Рябиновые бусы» (Вологда – В. Устюг). Дальнейшие маршруты скупо реконструируются благодаря редким пометам под стихами и оброненным в тексте топонимам: Дальний Восток, Турксиб, Вас-Юган (Васюган).
К 1929 году относится одно из немногих свидетельств о его литературном окружении. Ефим Вихрев записывает в дневнике 13 ноября: «На вечере у Катаева, где Клюев читал “Погорельщину”, были: Орешин, Клычков, Зарудин, Глинка, Тарусский, С. С. Воронская, Семен Фомин, Колоколов, Лукич (Н. Л. Алексеев), Губер… На всех, за исключением Губера и Колоколова, поэма произвела огромное впечатление. Разошлись в 2 ч. ночи. Много спорили о “Перевале”, о поэме и вообще» [8] Переверзев О. К. Н. А. Клюев в дневниках и переписке Е. Вихрева и Дм. Семеновского // Николай Клюев. Исследования и материалы. М., 1997. С. 232.
. (К этому списку естественных литературных союзников стоит прибавить имя Зенкевича, которому он, в частности, поднес книгу с таким инскриптом: «Михаилу Александровичу Зенкевичу моему учителю в поэзии с чувством уважения и дружбы Николай Тарусский. 6 Х 40. Москва» [9] Собрание С. Е. Зенкевича. Ср. инскрипт на сборнике 1935 года: «Дорогому М. А. Зенкевичу – моему учителю в поэзии Николай Тарусский 23.I.35 ошибка – следует 1936. Москва» (собрание Л. М. Турчинского). Акмеистические истоки поэтики Тарусского были заметны проницательнейшим из критиков: «В стих. “Ветер” реставрируется романтика индивидуализма, роднящая творчество Н. Тарусского с акмеизмом» (Шишкевич М. [Рец. на:] «Недра». Кн. 15. Изд. «Недра». 1929 // Литературная газета. 1929. № 4, 13 мая. С. 4).
.)
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу