Милая Зиночка, простите, что так начинаю письмо, не зная Вашего отчества, но и Вы ведь меня в Париже вспомнили при встрече в кафе Одеон как «Толю Штейгера», которого Вы знали в Константинополе.
Мне посоветовали обратиться к Вам, потому что, по парижским сведениям, Вы в Брюсселе всемогущи.
Дело вот в чем: я еду в Берлин и в Прагу и буду в Брюсселе проездом приблизительно через десять дней, в субботу или воскресенье на следующей неделе. Не могли бы Вы организовать мне или хотя бы посоветовать, к кому обратиться, литературный вечер? Если это а принципе возможно, не согласились бы Вы сказать небольшое вступительное слово, прежде чем я буду читать свои стихи и рассказы? Я бы очень мечтая об этом вечере, так как без него мне не удастся задержаться а Бельгии и осмотреть Брюссель. В смысле материальном приблизительно на какую сумму я мог бы рассчитывать? Меня бы удовлетворило совсем немногое, juste de quoi payer (только чтоб оплатить — фр.) гостиницу, еду и мелочи.
Очень прошу Вас извинить меня за причиняемые Вам хлопоты, но, по словам парижан — Кнута, Адамовича, — в Брюсселе все от Вас зависит, и я обращаюсь к Вашей, так сказать, «парижской солидарности».
В случае Вашего согласия, я Вам немедленно вышлю мои стихи и 1–2 рассказа, чтобы Вы могли заблаговременно с ними ознакомиться. Жду с нетерпением от Вас ответа. «Весь Монпарнас» Вам кланяется и Вас не забывает. Целую Ваши ручки.
А. Штейгер.
14 марта 1935
Милая Зика, просто не знаю, как благодарить Вас за Ваше письмо и за Ваше приглашение, которое я принимаю с радостью и буду в Брюсселе в это воскресенье. Я все же очень надеюсь, что удастся что-нибудь устроить с вечером, хотя бы и очень небольшим, так как мне все-таки очень совестно было бы Вас стеснять и доставлять Вам хлопоты.
Сегодня вечер И. Анненского и я увижу Алферова и Кнута и исполню Ваше поручение. Я еще не уверен, с каким поездом мне удастся выехать, но во всяком случае я буду у Вас не позже 4 часов дня.
Очень прошу Вас простить меня за невозможную бумагу, но у меня сейчас ничего нет под руками.
Целую Ваши ручки и еще раз очень благодарю
Преданный Вам Толя Штейгер
5 июля 1935 г.
Милая Зика, не знаю какого Вы должны быть обо мне мнения (самого плохого, конечно), потому что моя открытка из Берлина, которую Вы, надеюсь получили, — всего моего невежества не искупает.
Все оправдания всегда вздор, но на этот раз у меня, правда, есть искупающее вину обстоятельство: уже по адресу Вы увидите, что это больше не «третий Рейх» и не Прага, — а Швейцария — et ce qui est pis (и еще того хуже — фр.) — швейцарский санаториум.
Моя слабость и усталость на следующий день по приезде в Прагу осложнилась еще и почти малярийной температурой, — уж давно я чувствовал себя плохо, но два французских врача, к которым я обращался перед моим отъездом из Ниццы — один из них знаменитый, — убедили меня в том, что это «неврастения», — я обрадовался, потому что Fernand Gregh [105] Французский поэт, член Франц. академии (1873–1960).
про нее писал, qu'elle est la dixteme Muse… [106] Что она десятая муза.
Но очень скоро выяснилось, что малярия, от которой меня лечили, и неврастения — тут решительно ни при чем и что состояние моих легких почти «скоротечное».
Пришлось бросать все и ехать сразу в Швейцарию, где я уже второй месяц. Положение мое очень серьезное, и большой вопрос, «выкручусь» ли я. Во всяком случае, мне минимум год в постели.
Третий Рейх произвел на меня впечатление сумасшедшего дома — язычество, выводы, делаемые из расизма в науке, законодательстве и быту, — и военного лагеря. У меня были старые связи в очень разных кругах, что помогло мне ориентироваться: немцы
все — войны хотят и пойдут, даже рискуя погибнуть в общей катастрофе. Я видел Хитлера, Геринга, Фрика, Геббельса. Хитлера обожествляют, но я не знаю, в его ли руках реальная власть — или она в действительности у генералов Рейхсвера. Ко всему русскому культуре, литературе, национализму — отношение оскорбительное: и первый удар, конечно, будет на Восток. Только и речи, что об Украине.
Я несколько раз видался с Сириным и был на его вечере, на котором было человек 100–120 уцелевших в Берлине евреев, типа алдановских Кременецких — среда, от которой у меня делается гусиная кожа, но без которой в эмиграции не вышло бы ни одной строчки по-русски. Сирин читал стихи — мне они просто непонятны, — рассказ, очень средний, — и блестящий отрывок из biographie romancee — шаржа? памфлета против «общественности»? — о Чернышевском. Блестящий.
Читать дальше
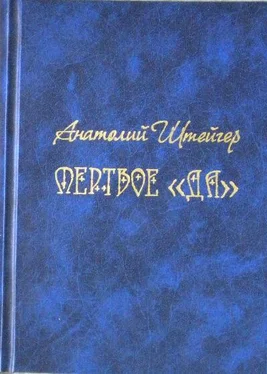



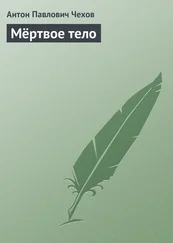


![Анатолий Чехов - Мертвая зона [Повести]](/books/400001/anatolij-chehov-mertvaya-zona-povesti-thumb.webp)


