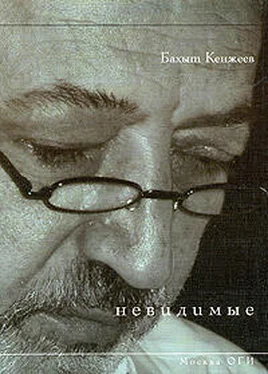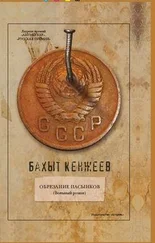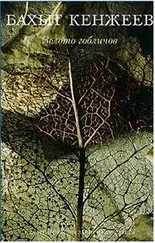Перестань, через силу кричащий во сне
безнадежный должник на заемном коне,
что ты мечешься, в пальцах держа
уголек, между тьмою и светом в золе?
Видишь — лампа горит на пустынном столе,
книга, камень, футляр от ножа.
Только тело устало. Смотри, без труда
выпадает душа, как птенец из гнезда,
ты напрасно ее обвинил.
Закрывай же скорей рукотворный букварь —
чтобы крови творца не увидела тварь,
в темноте говорящая с Ним.
***
Среди миров, в мерцании светил…
Сколько звезд роняет бездонный свет,
столько было их у меня,
и одной хватало на сорок лет,
а другой на четыре дня.
И к одной бежал я всю жизнь, скорбя,
а другую не ставил в грош.
И не то что было б мне жаль себя —
много проще все. Не вернешь
ни второй, ни первой, ни третьей, ни —
да и что там считать, дружок.
За рекой, как прежде, горят огни,
но иной уголек прожег
и рубаху шелковую, и глаз,
устремленный Бог весть куда,
И сквозь сон бормочу в неурочный час —
до свиданья, моя звезда.
***
Ничего, кроме памяти, кроме
озаренной дороги назад,
где в растерзанном фотоальбоме
пожелтевшие снимки лежат,
где нахмурился выпивший лишку
беззаконному росчерку звезд,
и простак нажимает на вспышку,
продлевая напыщенный тост —
мы ли это смеялись друг другу,
пели, пили, давали зарок?
Дай огня. Почитаем по кругу.
Передай мне картошку, Санек.
Если времени больше не будет,
если в небе архангела нет —
кто же нас, неурочных, осудит,
жизнь отнимет и выключит свет?
Дали слово — и, мнится, сдержали.
Жаль, что с каждой минутой трудней
разбирать золотые скрижали
давних, нежных, отчаянных дней.
Так, давайте, любимые, пейте,
подливайте друзьям и себе,
пусть разлука играет на флейте,
а любовь на военной трубе.
Ах, как молодость ластится, вьется!
Хорошо ли пируется вам —
рудознатцам, и землепроходцам,
и серебряных дел мастерам?
***
Пусть вечеру день не верит — светящийся, ледяной, —
но левый и правый берег травой заросли одной —
пожухлой, полуживою, качающей головой —
должно быть, игрец-травою, а может, дурман-травой.
А солнце все рдеет, тая, когда выдыхает «да»
река моя золотая, твердеющая вода,
и мокрым лицом к закату слабеющий город мой
повернут — хромой, горбатый и слепоглухонемой.
И мало мне жизни, чтобы почувствовать: смерти нет,
чтоб золото влажной пробы, зеленое на просвет,
как кровь, отливало алым — и с талого языка
стекала змеиным жалом раздвоенная строка.
***
Должно быть, Ева и Адам цены не ведали годам,
не каждому давая имя. А ты ведешь им строгий счет,
и дни твои — как вьючный скот, клейменый цифрами густыми,
бредет, мычит во все концы — чтоб пастухи его, слепцы
(их пятеро), над мерзлой ямой тянули пальцы в пустоту
морозную, и на лету латали скорбью покаянной
прорехи в ткани мировой. Лежишь, укрывшись с головой,
и вдруг как бы кошачий коготь царапнет — тоньше, чем игла —
узор морозного стекла — и время светится. Должно быть,
холодный ангел Азраил ночную землю озарил
звездой зеленою, приблудной, звездой падучей, о шести
крылах, лепечущей «прости» неверной тверди многолюдной.
***
Спят друзья мои в голубых гробах. И не видят созвездий, где
тридцатитрехлетний идет рыбак по волнующейся воде.
За стеной гитарное трень да брень, знать, соседа гнетет тоска.
Я один в дому и жужжит мигрень зимней мухою у виска,
Я исправно отдал ночной улов перекупщику, и притих,
я не помню, сколько их было, слов, и рифмованных и простых,
на смену грусти приходит злость — отпусти, я кричу, не мучь —
но она острее, чем рыбья кость, и светлее, чем звездный луч.
***
Я шагал с эпохой в ногу, знал поэтов и певцов,
знал художников немного, и известных мудрецов.
Рассуждал о коммунизме, о стихах, о смысле жизни,
или шахматной игрой с ними тешился порой.
И не просто для забавы эти творческие львы
говорили мне, что слава слаще меда и халвы —
что в виду они имели сочиняя эту речь,
олимпийцы, чем хотели друга скромного увлечь?
Слава — яркая заплата. Это Пушкин написал.
Но она же и зарплата, и шампанского бокал.
Был я полностью согласен и завистливо глядел,
представлялся мне прекрасен этот радостный удел.
Читать дальше